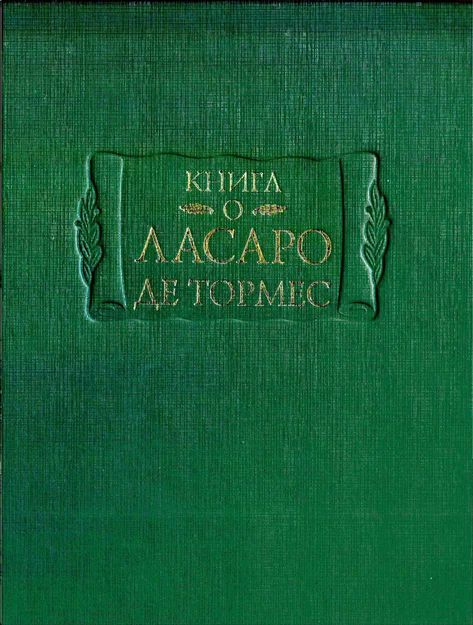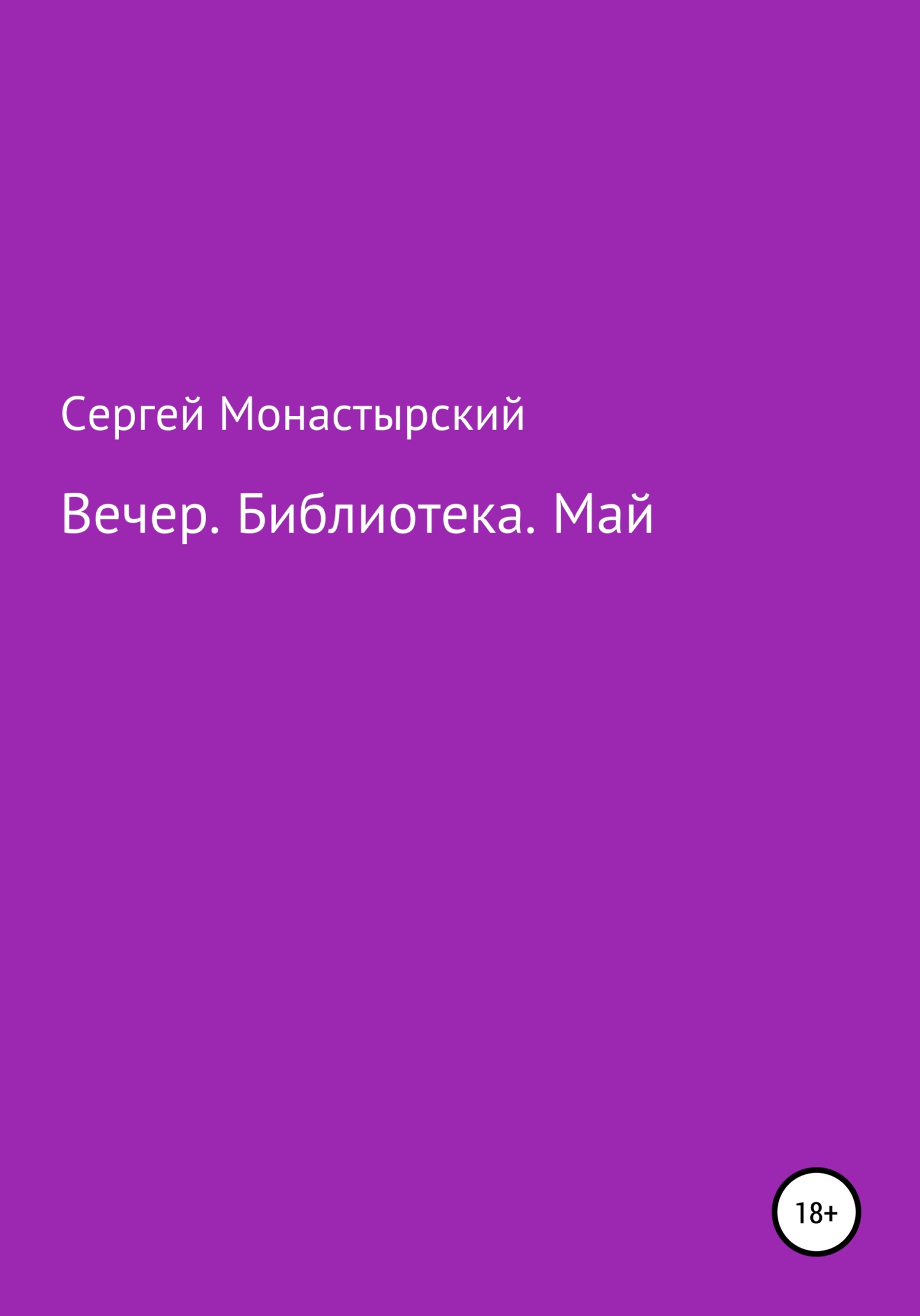которого мы напились, и сказал:
— Мальчик, иди-ка сюда и посмотри, как делается постель, чтобы в другой раз суметь ее приготовить.
Я стал с одного конца, а он с другого, и мы вдвоем приготовили это несчастное ложе, где и готовить-то нечего было, потому что состояло оно из плетенки, положенной на скамьи, и накрытого простыней тощего тюфяка, который, давно забыв о чистке, даже и не походил на тюфяк, но всё же заменял таковой, хотя начинки в нем было меньше, чем полагалось. Мы его разостлали и попытались умягчить, но это оказалось невозможно, ибо из твердого очень трудно сделать мягкое. Проклятый тюфяк так мало содержал в себе шерсти, что, когда мы положили его на плетенку, все ее прутья обозначились под ним, как ребра у тощей свиньи. Сверху было положено столь же тощее одеяло, цвет которого я не мог разобрать. Когда постель была приготовлена, уже наступила ночь, и хозяин сказал:
— Уже поздно, Ласаро, а отсюда до рынка очень далеко. К тому же в городе полно воров, они грабят по ночам. Обойдемся как-нибудь, а утром Господь нас вознаградит. Я не запасался едой — ведь я до сих пор жил один и все эти дни не обедал дома, а теперь мы устроимся иначе.
— Что касается меня, сударь, — заговорил я, — то об этом вашей милости не стоит беспокоиться, — я и не одну ночь, если нужно, могу побыть без еды.
— И будешь здоровее, да и проживешь дольше, — подхватил он, — мы с тобой уже говорили: ничто на свете так не способствует многолетию, как умеренность в еде.
«Ну, коли так, — подумал я, — то я никогда не помру: я всегда соблюдал это правило поневоле и думаю даже, что, на свое несчастье, буду верен ему всю жизнь».
Он улегся, подложив под голову свои штаны и камзол, и велел лечь у его ног, что я и сделал. Но будь проклят сон мой, ибо прутья плетенки и мои торчавшие кости всю ночь не переставали ссориться и злиться друг на друга, ибо от забот, несчастий и голода в теле моем не осталось уже ни фунта мяса. Притом я целый день почти ничего не ел и в конце концов озверел от голода, а тут уж бывает не до сна, и да простит меня Господь, но только я осыпал проклятиями и себя самого, и мою несчастную судьбу. Большую и худшую часть ночи я не смел пошевельнуться, чтобы не разбудить моего хозяина, и неустанно молил Бога о смерти.
Утром мы поднялись, и хозяин стал чистить и встряхивать свои штаны, камзол и плащ, а я усердно прислуживал ему во время долгого его одевания. Я подал ему воды вымыть руки, он причесался, взял свою шпагу и, прицепляя ее к портупее, сказал:
— Если бы ты знал, мальчик, что это за шпага! Я не променял бы ее на всё золото в мире. Из тех шпаг, что сделал Антонио [57], ни у одной нет такого острого клинка, как у этой. — Он вытащил ее из ножен и попробовал пальцами: — Видишь? Я берусь пронзить ею кипу шерсти.
«А я моими зубами, хоть они и не стальные, берусь пронзить хлеб в четыре фунта весом», — подумал я.
Он вложил шпагу в ножны, прицепил ее к портупее вместе с огромными четками и спокойным шагом, держась прямо, изящно покачивая станом и головою, перебрасывая плащ то через плечо, то через руку и подбоченясь, направился к выходу.
— Ласаро, — сказал он, — пригляди за домом, пока я схожу к обедне, прибери постель, сбегай за водою на реку, а дверь запри на ключ, чтоб у нас чего-нибудь не стянули, и положи его вот тут, у косяка, на случай если я вернусь раньше тебя.
И он, приосанясь, зашагал по улице с таким гордым видом, что всякий, кто не был с ним знаком, мог бы подумать, что это идет близкий родственник графа Аларкоса [58] или, по крайней мере, камердинер, помогавший ему одеваться.

«Благословен Господь, — подумал я, оставшись один, — посылая болезнь, он указует и лекарство! Кто, встретив моего хозяина, не подумает, судя по его довольному виду, что вчера он вкусно поужинал, спал на мягком ложе и, несмотря на ранний час, сытно позавтракал? Неисповедимы пути Твои, Господи, и людям не дано их постигнуть! Кого не обманули бы эта наружность, этот приличный плащ и камзол? Кому придет в голову, что этот дворянин ничего вчера не ел и удовольствовался лишь краюхой хлеба, которую слуга его Ласаро целые сутки таскал у себя за пазухой? Кому придет в голову, что сегодня, вымыв лицо и руки, за неимением полотенца воспользовался он полой своего кафтана? Никто, конечно, этого не подозревает. О Господи, как много подобных ему рассеяно по свету, и из-за этой гадости, которая называется честью, они терпят столько мук, сколько не претерпели бы во имя Твое!»

Рассуждая таким образом, стоял я у дверей и смотрел вслед моему хозяину до тех пор, пока он не прошел нашу длинную и узкую улицу. Когда же он скрылся из виду, я в один миг обошел весь дом, сверху донизу, не зная, за что бы мне взяться. Я убрал злосчастную жесткую постель, взял кувшин и по дороге к реке увидел моего хозяина: он стоял в саду и рассыпал любезности двум расфуфыренным девицам, какие в том городе попадаются на каждом шагу. Многие из них имеют обыкновение в летнее время гулять по бережку и дышать утренней прохладой в надежде, что кто-либо угостит их завтраком, как это принято у местных идальго.

Итак, хозяин мой беседовал с ними на манер Масиаса [59], расточая больше неясных слов, чем их насочинял Овидий [60]. Когда же они удостоверились, что он расчувствовался не на шутку, им не показалось зазорным попросить его повести их завтракать за полагающееся в таких случаях с них вознаграждение. Он же, ощутив, что кошелек его столь же холоден, сколь горяч желудок, внезапно заболел лихорадкой, побледнел, начал путаться в словах и бормотать пустые извинения. Наученные опытом, они сразу