Петрович смотрел и думал, что сейчас он — свидетель многих состязаний. Тут встречаются не только «Спарта» и «Геркулес». Тут борется адвокат Петрович с отцом Петровичем, Аничка с Желкой. Выиграет адвокат — проиграет отец; выиграет адвокат — выиграет Аничка, а Желка, чего доброго, проиграет Дубца, который, судя по всему, интересуется ею. Надо бы выяснить, серьезные ли у него намерения. Если да — пускать в ход жалобу против него просто глупо, потому что в благоприятном случае его карман и карман Дубца — один общий карман, не будет же он выворачивать собственные карманы.
Два игрока — один в белой футболке и красных трусах, другой в красной футболке и белых трусах, — один справа, другой слева — подали Желке халат и проводили ее на почетную трибуну. Там ей было оставлено место неподалеку от вице-президента; он поклонился ей, аплодируя, чуть приподнявшись с кресла и размышляя про себя — встать ли и поблагодарить ее за прекрасный удар, или достаточно будет немого поздравления с улыбкой. Сообразив, что он, собственно, незнаком с девицей, поскольку никто не догадался представить ему ее — разве спортсмены знают, как и что полагается? — он удовлетворился немым любезным поздравлением.
Начался обычный матч.
«Глупая девчонка!» — Петрович злился, что Желка не села ближе к Дубцу и упускает такую возможность!
Дубец издалека поклонился Желке. Она весело кивнула ему головой, как старому знакомому…
— А я готовил покушение на ваш карман, — неожиданно вырвалось у Петровича, вероятно, потому, что они замолчали и говорить было не о чем.
— Жена? — спросил Дубец, удивив Петровича тем, что он так близок к истине.
— Нет. Дочь.
— Анна?
Петровича отбросило на спинку кресла. Он онемел. И лишь в мозгу у него промелькнуло: «Просто ясновидец!» Шея у Петровича одеревенела, он даже не смог утвердительно кивнуть. В его ушах звенели слова, что дело в порядке, не потребуется ни обвинений, ни покушений, деньги находятся в суде, как сиротский депозит. О девочке в самом деле забыли, но когда пани Микласова зашла к Магулене потребовать расширения домашней регистрации, выяснилось, что Анна не записана ни в одном календаре, потому что учитывается отдельно, и причитающиеся ей суммы ежемесячно перечисляются на книжку Магулены Чинчаровой. В настоящий момент набежало до семидесяти тысяч…
— У Магулены все списки я забрал. Теперь их ведет главный управляющий. Магулене я доверил наблюдение за коровами.
— А дочь видеть не хотите? — с трудом выдавил Петрович.
— Вся эта история некстати. У меня совершенно иные намерения. На этот раз серьезные. Довольно мальчишеских выходок. Хотел я выкинуть еще один, последний фокус — сальто-мортале, чтобы либо шею свернуть, либо идти по земле таким, знаете ли, семейным и гражданским шагом… И вдруг именно сейчас из тьмы прошлого вынырнула какая-то девочка, и моя легкомысленная совесть напомнила мне обо всех моих грехах… О девушке я позабочусь, но сейчас я хочу «торжественно выбить» ее из моей жизни. Она мне мешает.
— Торжественно выбить? — Петрович оттопырил бороду.
— Ну, если хотите, вычеркнуть из моей жизни. Я говорю «торжественно выбить», потому что это связано с сегодняшним торжественным ударом.
Петрович понял. Серьезные намерения — это его дочь. Все в порядке.
— Прошу вас, пан депутат, не говорите об этом мадемуазель.
«Конечно, конечно».
Из-за облаков выглянуло солнышко.
— Она ведь обо всем знает, — вспомнил депутат.
— Тогда все кончено.
— Нет, это только начало песни.
— Вы думаете?
— Разумеется, не сомневайтесь.
Петрович превратился в пылающий солнечный столб, он сиял и рассказал все, что знал об Аничке и комиссаре Ландике: они до такой степени влюблены друг в друга, что ничего не замечают вокруг…
Среди зрителей — их насчитывалось до десяти тысяч — находился и Ландик. Он был не настолько влюблен, чтоб ничего не замечать. Он очень хорошо видел мадемуазель Желмиру Петровичеву. Давно они не были вместе. После последнего совместного «упражнения для шеи» или «физкультурных поцелуев», которые так хорошо разглядел, а потом бесстыдно выдал попугай Лулу, Ландик заходил к ним всего два раза, да и то не на квартиру, а в канцелярию «дорогого дядюшки»; один раз — посоветоваться относительно выступлений в деревнях, а в другой — заступиться за Микеску, чтоб пан председатель не прогонял его из секретарей за то, что он осмелился предлагать кандидатуру Розвалида. При этом Ландик намекнул, что дорогой дядюшка обещал лично похлопотать перед паном председателем за этого несчастного и, что самое подходящее, — рекомендовать его как специалиста-финансиста в краевой комитет или хотя бы в окружной комитет в Старом Месте от крестьянской партии, преданнейшим приверженцем которой он был и остается. Лучше, конечно, в краевой, потому что членам его платят за одно-два заседания три тысячи крон в месяц, и он не только воспрянул бы духом, но и поправил дела; на подобное вмешательство дядюшка реагировал весьма сдержанно и разговаривал высокомерно. Разве не достаточно, что он бесплатно ведет два процесса Розвалида, не испросив даже аванса на гербовые марки? «Видно, Розвалиду этого мало, — саркастически заметил адвокат, — и он будет добиваться от партии дарового автомобиля».
В ответ на это оскорбленный Ландик повернулся и, не произнеся ни слова, ушел, оставив дядюшку в недоумении. Его охватило отвращение, и он решил никогда не переступать порог дядюшкиного дома и ни о чем не просить этого чванливого индюка.
В этом решении его укрепила и встреча с Желкой, оставившая неприятный осадок. Ландик зашел в «Китайскую кондитерскую», куда забегали съесть порцию мороженого и выкурить сигаретку-другую четырнадцати — пятнадцатилетние школьницы во время уроков закона божьего{140}. Напрасно он туда пошел. Это случилось после тех «выборов», на которых Аничка была единственной избирательницей, а сам он был избран единогласно. В тот раз Микеска не допил кофе, а в «Китайской кондитерской» не допил кофе Ландик. Он оставил его нетронутым вместе с ватрушкой; он рассердился на Желку так же, как перед этим на ее отца.
— Мне поручили торжественный удар по мячу, — похвалилась она Ландику.
— Это не очень эстетично, — охладил он ее пыл, — женщинам это не идет. Как ласточке слоновьи ноги.
— Не видала таких ласточек.
— А я — женщин, которые лягают мячи.
— Только вам разрешено лягать, причем — женщин.
— Кто лягает женщин?
— Хотя бы ты.
— Как? Откуда ты взяла?
— На себе почувствовала.
— Я тебя лягал?
— Да. Меня в Старом Месте, а ту, другую, здесь в Братиславе. В Старом Месте мяч звали Желкой, а тут, в Братиславе — Аничкой… Зачем ты меня целовал, — прошипела она, — если игра уже была сыграна?
Ландик шмыгнул носом. Он не сразу понял — серьезно или в шутку она его упрекает. То, что Желка знает об Аничке, его смутило, но он тут же одернул себя — ему нечего стыдиться. И таиться нечего, приказал он себе, решив серьезно объяснить все, но Желка продолжала сердито шептать:
— Зачем, если ты ее целовал, начал игру со мной? Конечно, вы швыряете нас на землю, бьете нас ногами, мы летим вверх тормашками и не знаем, куда упадем, в какие ворота влетим. Вот и мы будем учиться, как лучше вам наподдать, не для того, чтоб вы высоко летали, а чтоб чувствовали нас. Все. Конец старой игре, начинаем новую…
— Гол! — крикнул он ей в ухо. — Чем больше будет забитых мячей, тем вернее надежда на переходящий кубок.
— Да, милый Яник. Пришел конец нашей чудесной игре. Оставайся со своим мячом, и пусть он будет называться пани Ландиковой. А мой мяч на торжественном ударе — паном Ландиком. По тебе ударю, и ты вылетишь. Из сердца выбью, — из сердца вылетишь.
Ландика уже начинала злить ее горячность и явная фальшь. «Со своим мячом» доконало его, он вспыхнул и напомнил, что она была не лучше и играла им от начала до конца. Возле нее всегда вертелись другие игроки, а он в этой игре не был даже подметкой ее ботинка, путался в пыли под ногами либо смотрел из-за забора сквозь дырку в доске от выпавшего сучка. Ему впору было лезть на дерево, чтобы увидеть ее некорректную игру, потому что доступ на стадион ему был закрыт.
— Что ж, пока!
— Пока! — отозвалась она. — Ступай к своей кухарке. Ровня к ровне!
Желка скривила губы, словно собираясь заплакать. Она отомстила за неверность!
При словах «кухарка» и «ровня к ровне» Ландик побагровел от гнева. Барская бесчувственность! Не ожидал он от нее такого. Милая, нежная девушка, и вдруг — такой злобный вульгарный выпад. Капелька желчи — и слезла вся лакировка. Аничка куда благороднее.
— Как бы ты не породнилась с этой кухаркой, — бросил он ей в глаза, словно камень.
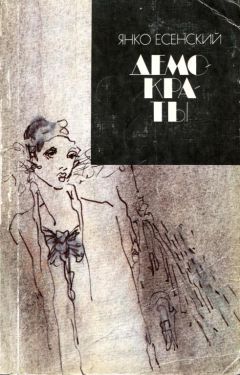

![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)


