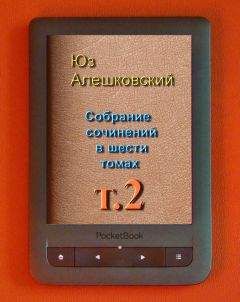– Кто еще звонит? – услышал Л.З. буховатый голос другой коммунальной личности. – Тебе что, гнида, кишки вокруг шеи намотать?
– Повторяю, у аппарата Лев Захарович Мехлис. С вами мы еще встретимся там, где следует… вы говорите по телефону последний раз… ясно?
– Ты меня поразыгрывай, падла, поразыгрывай… я те монтировкой враз сам телефон отключу, гад, блядь, так, что фары растекутся по завалинке… ни один часовщик не соберет… чего баб пугаешь?
Л.З. наплевать было на оскорбления и явное глумление. Он не смог удержаться и заискивающе спросил:
– Почему, товарищ, вас удивляет упоминание имени Мехлиса?
– Сгинь, гондон… попробуй – позвони еще разок… я тте позвоню, псина. Сгинь… – говоривший повесил трубку.
Как же народу не распоясаться, когда рябая сукоеди-на вытворяет черт знает что с ответственными работниками, подумал Л.З. с нервозностью обывателя, затравленного сюрреальными кошмарами советского быта… Значит, все-таки сообщению правительства можно верить. Народ знает о факте моей смерти. Начал поминать. Нет – монолитное единство народа и партии существует даже в будничной жизни. Его так просто не уничтожить никому. И никогда…
Оттого, что теперь не нужно больше думать и гадать насчет действительного положения дел… хорошо… я умер-шмумер… будем думать, как жить дальше… и, конечно, от кофе с коньячком Л.З. почуял значительное облегчение. Хлопнул еще рюмашку и ни с того ни с сего шваркнул чудное хрустальное существо об пол… подыхать – так с музыкой… собственно, почему именно подыхать?… завтра у нас… впрочем, может быть, это произойдет ночью… затем прощание с прахом в урне… Красная… а вот тогда мы посмотрим, какой вы выкинете, говно собачье, очередной ход… Мехлис готов ко всему… Вы слышите? Ведь вы, очевидно, установили микрофоны в моем организме? Странно, что я набирал правильный номер, а попал не туда… между прочим, двум смертям не бывать, а одной не миновать… одной мы еще с вами не имеем, товарищи…
Похорохорившись, Л.З. снова поплелся к телефону. Он вспотел от выпитого и ощущал испарину, как липкое расползшееся по лицу животное. Не хотелось дотрагиваться до нее, чтоб смахнуть, стереть… плевать… Только стал набирать номер Верочек – обмер и задрожал. Захлопнулась входная дверь. Кто-то заходил в квартиру… был звук… Осторожно вышел в коридор… все еще дрожа, шуранул палкой щетки в чуланчик для обуви… прошелся по комнатам… Заглянул под кровати… вернулся к входной двери… увидел прямо на пороге плетеную корзину.
Корзина была накрыта белой льняной салфеткой, такой свежей и чистой, что у Л.З. сжалось сердчишко еще от одного обрыва… к Новому году домработница сервировала стол… скоро придут Вышинские… игривый хрусталь перемигивался с молчаливым серебром… и вот эта салфетка лезет за пазуху перед закусочкой… лезет прохладною, свежей лапкой… щекочет волосатую грудь, словно живая рука… и жена укоризненно смотрит… Лев, гораздо протокольней – положить салфетку на колени… пошла ты на хер… мысленно отвечаю… неужели это – конец и никогда… никогда ни с кем больше не посидим?…
Застонав от острой боли в сердце, заглянул в корзину. В ней лежали продукты. Всего понемногу. Все уложено с истинно женственной теплотой и заботливостью, столь всегда любезной Л.З. Он развернул с кривой, торжествующей ухмылкой сверточки… Колбаска вареная и твердокопченая… рыбка красная, розовая, золотистая… любимая лососиночка… ветчинка… еще горяченькие калачи от Филиппова?… да… от Филиппова… маслинки… огурчики… помидорчики… икорка… пара вобл?… экспортный вариант «Жигулевского»?… это уже садизм, понимаете…
Есть Л.З. не хотелось, но слюнки у него, однако, потекли. А торжествовал он потому, что разгадал, как ему казалось, на этот раз, точно разгадал замысел рябой профурсетки… Ты хочешь, чтобы я хорошо покушал, а потом, точно к митингу на Красной начал загибаться и корчиться от яда?… Мехлис не такой дурак, как ты думаешь… он еще имеет кое-что в холодильнике… Ага… но и эта твоя комбинация обречена на провал… ты не дождешься, подыхающая гиена всех времен и народов, моего самоотравления…
Л.З. был доволен, разгадав многоходовую комбинацию Сталина. Сомнений у него на этот счет не было. Поэтому он хотел плюнуть на чудесные продукты, но оказалось, что во рту нет слюны… нет слюны – и все, хотя слюнки только что текли… текли… вполне возможно, что яд был в кофе и в коньяке… почему бы нет?…
Он попробовал отсосать из десен хоть каплю, хоть слюнку, но рот был сухим, и язык в нем ворочался, словно изнемогшая от пекла пустыни рептилия… Мехлис скажет тебе сейчас, паскудник, все, что он о тебе думает… двум смертям не бывать, а одной не миновать… Мехлис работал как вол…
Л.З. хлобыстнул еще рюмашечку… в плане, понимаете, борьбы с общей слабостью и обезвоженностью… затем бросился к телефону – к «вертушке» на этот раз – с тем, чтобы действительно на полном серьезе выложить Сталину законные упреки… Мехлис уйдет, хлопнув дверью… вы это увидите, убийцы Госконтроля…
Поднял трубку «вертушки». Зуммера не слышал, потому что в раковину уха ворвались какие-то голоса. Это была голосовая каша. Слоеный голосовой пирог. Выделить из него хоть отдельный голосок было просто невозможно, но шум быта жизни, живые его волны заворожительно освежили Л.З. Он и не пробовал с обычным раздражением бешено бить трубкой по аппарату, разъединять линию и ставить контакты, понимаете, на свое место.
Л.З. внимал. Слух его быстро начал различать отдельные голоса, затем разговоры… И, внимая им, Л.З. как бы выбрался из всепоглощающей пучины Времени на ледяную корочку его бережка. Как бы притырился, ловко слившись с ободком циферблата, от бешено завращавших-ся стрелок, от их мясорубочных лопастей, бессильных выйти за положенный куст, бессильных достать Л.З. ужасными остриями… все внимая… внимая… внимая голосам… воплям… разговорам… вопросам… ответам… бреду болтовни… деловой бессмыслице… умному трепу бездельников… преступной чуши… скандалам… истокам различных афер… срочным вызовам… голой, половой бормотухе… хохоту… рыданиям… безнадежным жалобам и стремлениям… абсурдным сообщениям, то есть уже общению вещей, а не людей… анекдотикам, которые, к сожалению, вещи не рассказывают друг другу… внимая многому другому и туповато уставившись на стоявшие у стены часы родного деда, Л.З. сиганул с циферблата вниз, увернувшись от секача маятника, в его запыленный закуток, удивительно охраняющий свою столетнюю неприкосновенность, но все эти сто лет упрямо подзаводящий бычиное стремление маятника к касанию…
И Л.З. тихо торжествовал в нижнем закутке дедушкиных часов, рядышком с бессмертным мешочком из нежнейшего зеленого сукна, где сладко дремал от подзаводки к под-заводке длинный стальной ключ с шишкой на затылке и пустыми дырками глаз в пухлых щечках, торжествовал, потому что изощренная жестокость Сталина неожиданно обернулась для жертвы пытки блаженным, от пытки же, отдохновением.
Это отдохновение от времени, эта от него отстраненность была для Л.З. такой же абсолютно естественной и реально существующей, как для всех голосивших в тонюсенькую мембрану через фантастические расстояния было несуществующим пространство…
…я тебя, Маруся, целую… слышишь меня?… целую и скажи Игорьку: всем хороша Австралия… только нет здесь черного хлеба и кремлевских елей… но мы тут тоже голосовали… что?… я говорю: отдали голоса…
Очевидно, рябой палач успел просечь, что допустил ошибку в работе. Все это – насчет плебейской тоски по черняшке, мудацких елок, голубоватых от налета смертного праха, вонючего голосования в Австралии за блок коммунистов и беспарточных, шутка Сталина, – было последним из того, чему внимал Л.З., забившись в темень закутка подальше от дотягивающегося… от дотягивающегося секача маятника…
Он мальчик… маленький мальчик… у мамы и папы гости… еврейский Новый год… Леву увели спать… уже поздно… он боится заснуть и ненавидит взрослых, потому что они не спят, а болтают… потому что он плачет от страха перед провалом туда, где его нет, – перед ненавистною бездной сна… и тогда он отвращается от нее в сладости самозабвения вниманием к голосам взрослых… он любит их теперь и просит умоляюще, неизвестно кого, чтобы они никогда не замолкали… голоса… голоса… голоса…
Л.З. почувствовал себя вдруг, когда выпустил трубку из рук, что его вышибли безжалостным поджопником, снова вышибли… сволочи… как презренного кутенка, в мертвую тишину.
И еще он почувствовал ненависть к сознанию, возвратившему его зачем-то ко всей этой подлятине. Он бродил по квартире, ломая по привычке пальцы – пальцы почему-то не хрустели, – бродил и устремленно прикидывал: как бы избавиться, понимаете, от этого сознания… без так называемых петель, глотания снотворных и прочих самоубийств… кажется, Демьян Бедный сказал в стишке, посвященном дню рождения Лермонтова… забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы, а наоборот… чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь… именно – вздымалась… не то что у моего чучела в гробу… неужели они не понимают… миллионы все-таки трудящихся… На кого они там смотрят?… вот до чего доходит всесоюзное очковтирательство, когда хоронят Госконтроль, понимаете… как бы, действительно, незаметно смыться от вашей объективной реальности… чтоб ей сгнить вместе с вами…