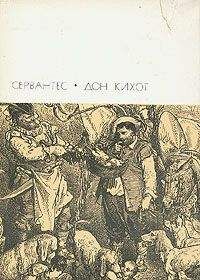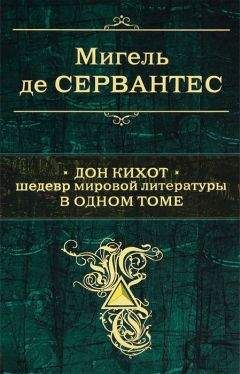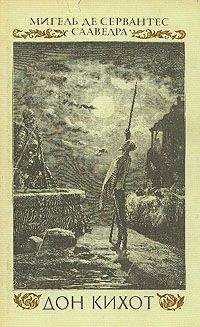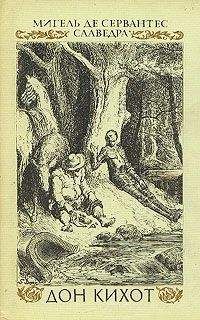В эту самую минуту убрали тент и с ужасающим грохотом спустили рею. Санчо почудилось, будто небесный свод обрушился и падает прямо ему на голову, и от страха он спрятал ее между колен. Впрочем, и Дон Кихоту стало слегка страшновато; он тоже вздрогнул, пригнул голову и сделался бледен с лица. Затем команда подняла рею с такой же точно быстротой и с таким же шумом, с каким она ее спускала, и все это моряки проделывали молча, словно у них не было ни голоса, ни дыхания. Боцман подал знак выбрать якорь, а затем не то с бичом, не то с хлыстом выскочил на середину палубы и принялся стегать гребцов по плечам, и тут галера стала медленно выходить в море. Как скоро Санчо увидел столько движущихся красных ног, за каковые он принимал весла, то заговорил сам с собой:
— Вот это уж и впрямь настоящее волшебство, не чета тому, о котором толкует мой господин. Чем эти несчастные так уж провинились, что их стегают безо всякой пощады? И как это один человек, который тут ходит да посвистывает, отваживается хлестать столько народу? Вот он где, сущий-то ад, или уж, по малой мере, чистилище.
Дон Кихот, заметив; с каким вниманием следит Санчо за тем, что происходит вокруг, обратился к нему с такою речью:
— Ах, дружище Санчо! Как легко и с каким проворством мог бы ты, когда бы только захотел, обнажиться до пояса, присоединиться к этим сеньорам и расколдование Дульсинеи довести до конца! Кругом столько мук и страданий, что тебе не так тяжко было бы переносить свои. Тем более что, может статься, мудрый Мерлин зачтет тебе каждый удар хлыста, нанесенный столь мощной рукой, за десять из общего числа тех, которые ты еще должен себе нанести.
Начальник хотел было спросить, что это за удары и что это за расколдование Дульсинеи, но в это время вахтенный крикнул:
— С Монжуика[222] подают сигнал, что у берега на весте показалось весельное судно.
Услышав это, начальник выбежал на палубу и крикнул:
— Эй, ребята, не упустите это судно! Верно, нам подают с маяка сигнал о какой-нибудь бригантине алжирских корсаров.
Вслед за тем к командорской галере приблизились остальные три, чтобы узнать, каков будет приказ. Начальник приказал двум галерам выйти в море, а третьей следовать за ним в виду берега, — таким образом, судно от них-де не ускользнет. Гребцы налегли на весла, и галеры понеслись, как на крыльях. Те, что вышли в море, обнаружили примерно в двух милях судно, как можно было определить на глаз — не то двадцативосьми-, не то тридцативесельное, и так потом и оказалось на самом деле; как же скоро судно обнаружило галеры, то, понадеявшись на свою легкость, начало, лавируя, быстро уходить, но уйти ему не удалось, оттого что командорская галера представляла собою одно из самых легких судов, когда-либо выходивших в море, и она с такой быстротой устремилась в погоню, что на бригантине ясно поняли, что спасение невозможно, и тогда арраис, дабы наш командор не разгневался еще пуще, отдал приказ сложить весла и сдаться, однако ж судьба решила иначе: едва лишь командорская галера подошла к бригантине на столь близкое расстояние, что там, наверное, были слышны голоса наших моряков, кричавших корсарам: «Сдавайтесь!», как два пьяных тораки, иными словами — два пьяных турка, находившиеся на бригантине вместе с другими своими соотечественниками, выстрелили из мушкетов и убили наповал двух наших моряков, стоявших на баке. После этого командор, поклявшись, что не оставит в живых ни одного человека из тех, кого удастся ему захватить на бригантине, со всею стремительностью атаковал ее, однако ж бригантина ускользнула, пройдя под веслами атаковавшей ее галеры. Галера прошла вперед на довольно значительное расстояние; в то время как она делала поворот, команда бригантины с решимостью отчаяния подняла паруса и снова, на парусах и на веслах, попыталась уйти, однако такое проворство не послужило ей ни к чему, дерзость же погубила ее, ибо, пройдя немногим более полумили, командорская галера снова настигла бригантину и, бросив на нее весла, всех захватила живыми. В это время приблизились две другие наши галеры, а затем все четыре галеры возвратились со своею добычею в гавань, где их ожидала несметная толпа народа, коей любопытно было знать, с чем они возвратятся. Командор стал на якорь близко от берега, и тут он увидел, что на набережной находится сам вице-король города. Командор распорядился послать за ним шлюпку, а также поднять рею и вздернуть на ней арраиса и прочих турок, а было их тридцать шесть человек, и все молодец к молодцу, в большинстве своем мушкетеры. Командор спросил, кто из них арраис; на это один из пленников, оказавшийся испанцем-вероотступником, ответил ему по-кастильски:
— Сеньор! Вот этот молодой человек, что стоит перед тобой, и есть наш арраис.
И с этими словами он указал на одного из самых прекрасных и статных юношей, каких только воображение человеческое способно создать. На вид ему было не более двадцати лет. Начальник обратился к нему:
— Отвечай, неразумный пес, зачем тебе понадобилось убивать моих людей в ту самую минуту, когда ты уже видел, что спастись вам не удастся? Так ли должно обходиться с флагманскими судами? Или ты не знаешь, что безрассудство не есть отвага? Когда человек находится на краю гибели, ему надлежит выказывать беззаветную храбрость, но не безрассудство.
Арраис хотел было ему ответить, однако ж командор в ту минуту не мог его выслушать: он поспешил навстречу вице-королю, который в сопровождении нескольких своих слуг и нескольких горожан уже всходил на галеру.
— Удачная была у вас охота, господин командор! — заметил вице-король.
— В высшей степени удачная, — подтвердил командор, — ваше превосходительство сей же час в том удостоверится, увидев дичь, которую мы развесим на этой рее.
— За что же это вы так? — спросил вице-король.
— За то, — отвечал командор, — что вопреки всем законам и всем правилам и обычаям военных они убили у меня двух лучших моряков, а я поклялся повесить всех, кого захвачу в плен, и в первую очередь этого молодца, арраиса бригантины.
И он указал вице-королю на молодого человека, который со связанными руками и с веревкой на шее ожидал своей смерти. Вице-король взглянул на юношу, и тот показался ему на удивление красивым, стройным и на удивление кротким, так что в эту минуту красота юноши послужила ему наилучшим рекомендательным письмом, а потому у вице-короля явилось желание спасти его от смерти, и он обратился к нему с вопросом:
— Скажи, арраис: ты родом турок, или мавр, или, может статься, ты вероотступник?
Арраис ему, также на кастильском языке, ответил:
— Я не турок, не мавр и не вероотступник.
— Так кто же ты? — спросил вице-король.
— Женщина-христианка, — отвечал юноша.
— Женщина, да еще христианка, в подобной одежде и при таких обстоятельствах? Все это скорее вызывает изумление, нежели внушает доверие.
— Отдалите, сеньоры, миг отмщения, — молвил юноша, — вы не много потеряете, отложив мою казнь до того времени, когда я окончу повесть о моей жизни.
Чье жестокое сердце не смягчилось бы при этих словах хотя бы настолько, чтобы пожелать выслушать печального и горестного юношу? Командор изъявил согласие послушать его рассказ с тем, однако ж, условием, чтобы он не надеялся получить прощение за свою столь явную вину. Испросив дозволение, юноша начал так:
— Я происхожу из того племени, которое скорее заслуживает название несчастного, нежели благоразумного, из племени, ныне ввергнутого в пучину зол: я хочу сказать, что родители мои — мориски. Когда настало тяжелое для моих соплеменников время, мои дядя и тетя увезли меня в Берберию, несмотря на то, что я говорила им, что я христианка, а я и точно христианка: не ложная и не притворная, но истинная и правоверная. Напрасно я поведала эту истину людям, которые руководили злополучным нашим изгнанием, даже мои родные — и те не хотели мне верить: они думали, что я нарочно лгу и выдумываю для того, чтобы остаться на родине, и увезли они меня насильно, а не по моей доброй воле. Мать моя — христианка, отец мой, человек благоразумный, — также христианин. Я с молоком матери всосала истинную веру, воспитана была в строгих правилах, и ни в языке, ни в манере держаться у меня, как мне кажется, ничего мавританского не было. По мере того как я укреплялась в своих добродетелях (я признаю эти мои свойства за добродетели), я становилась все миловиднее, — впрочем, я так и не знаю, подлинно ль я мила собою, — и хотя уединение мое и затворничество было весьма строгим, однако ж, по-видимому, не до такой степени, чтобы не дождался случая меня увидеть некий юный кавальеро, дон Гаспар Грегорьо, старший сын и прямой наследник нашего соседа. О том, как он со мною увиделся, о чем мы с ним говорили, как он потерял из-за меня свое сердце, да и я не сумела уберечь свое, — обо всем этом не стоит рассказывать, в особенности теперь, когда я в страхе ожидаю, что жестокая петля, грозящая мне, обовьется вокруг моего горла, и я прямо перехожу к тому, что дон Грегорьо пожелал разделить со мною мое изгнание. Он отлично знал арабский язык, и это помогло ему смешаться с морисками, ехавшими из других мест, в дороге же он подружился с моими дядей и тетей, с которыми мне пришлось ехать потому, что отец мой, человек благоразумный и предусмотрительный, едва до него дошел слух о первом указе, обрекавшем нас на изгнание, уехал из деревни и отправился искать для нас убежище в других государствах. Он спрятал и закопал в таком месте, которое известно только мне одной, много жемчуга и драгоценных камней, а также некоторое количество денег в крусадах и золотых дублонах. Отец ни под каким видом не велел мне прикасаться к этому сокровищу, даже если нас будут высылать, прежде чем он успеет возвратиться. Я исполнила его повеление и, как я уже сказала, вместе с моими дядей и тетей, а также с другими моими родными и близкими уехала в Берберию, и там мы избрали местом жительства Алжир, иными словами — сущий ад. Алжирский король прослышал о моей красоте, да и молва о моем богатстве также достигла его слуха, и отчасти это вышло к лучшему для меня. Король призвал меня к себе и спросил, из каких мест Испании я родом, а также сколько денег и какие драгоценности я с собой привезла. Я назвала ему родное мое селение и сказала, что деньги и драгоценности там и зарыты, но что их ничего не стоит оттуда извлечь, если только я сама за ними отправлюсь. Все это я сказала ему в надежде, что жадность ослепит его еще сильнее, чем моя красота. Тут ему доложили, что одновременно со мною пришел юноша, стройнее и прекраснее которого невозможно себе представить. Я тотчас догадалась, что речь идет о доне Гаспаре Грегорьо, ибо по красоте он не имеет себе равных. При мысли об опасности, грозившей дону Грегорьо, я невольно смутилась: ведь у этих варваров-турок красивый мальчик или же юноша ценится дороже любой женщины, хотя бы то была писаная красавица. Король тотчас же изъявил желание посмотреть на него и велел его привести, а меня спросил, правда ли то, что говорят про этого юношу. Тогда я, как бы по наитию свыше, сказала, что все это так и есть, но что я почитаю за должное уведомить короля, что спутник мой не мужчина, а такая же женщина, как и я, и обратилась к королю с просьбой позволить мне надеть на нее женское платье, дабы красота ее означилась во всем своем совершенстве и дабы она сама без особого смущения могла перед ним предстать. Король сказал, что в другой раз он поговорит со мною о том, как мне съездить в Испанию и добыть зарытые сокровища, а пока отпустил меня с миром. Я переговорила с доном Гаспаром и, предуведомив его об опасности, которой он подвергается как мужчина, вырядила его мавританкою и в тот же вечер повела к королю, — король при виде его пришел в восторг и порешил оставить девушку у себя, с тем чтобы потом подарить ее султану, а чтобы избавить ее от опасности, которая могла бы ей грозить, останься она в его собственном серале, и которая исходила бы не от кого-нибудь, а от него самого, он приказал поселить ее в доме неких знатных мавританок, с тем чтобы они ее опекали и за нею ухаживали, и приказание его было исполнено незамедлительно. Что мы оба тогда испытывали (а я не стану скрывать, что я люблю дона Грегорьо), об этом я предоставляю судить тем, кто знает по себе, что такое разлука с любимым. Король тут же распорядился, чтобы меня отвезли в Испанию на этой бригантине и чтобы меня сопровождали два чистокровных турка: это были те самые турки, которые убили ваших моряков. Еще вместе со мной отправился вот этот испанец-вероотступник (тут девушка указала на человека, с которым командор заговорил прежде других), — о нем мне доподлинно известно, что он тайный христианин и что он намерен остаться в Испании, в Берберию же возвращаться не хочет. Остальная команда состоит из мавров и турок: это все простые гребцы. Двое турок, алчные и наглые, в нарушение приказа — в любой части Испании высадить меня и вероотступника, переодетых в христианское платье, коим мы запаслись, задумали прежде обследовать побережье и попытаться захватить добычу; они боялись сразу же высадить нас на берег — боялись, как бы в случае чего мы не сообщили властям, что недалеко от берега находится бригантина, если же, мол, вдоль берега несут сторожевую службу галеры, то они ее захватят. Вчера вечером мы заприметили вашу гавань, но в конце концов были обнаружены сами, ибо не подозревали присутствия в море четырех галер, а дальше все происходило на ваших глазах. Итак, дон Грегорьо в женском платье живет среди женщин, рискуя каждую секунду погибнуть, а я стою здесь со связанными руками, ожидая или, вернее, страшась того мгновенья, когда мне придется расстаться с жизнью, хотя она мне и в тягость. Таков, сеньоры, конец печальной моей истории, столь же правдивой, сколь и горестной. Об одном я прошу вас: дайте мне умереть по-христиански, — я уже вам говорила, что не несу вины за то, в чем повинен народ мой.