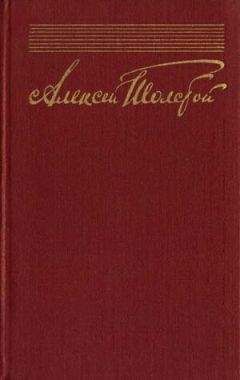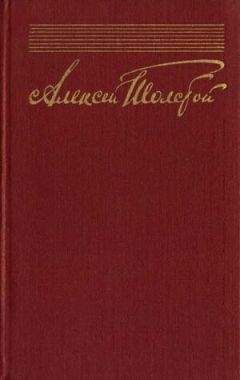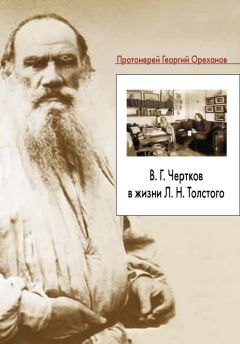Малюта. Дмитрий Петрович оговаривает князя Ивана Федоровича Мстиславского, что-де о мятеже знал и говорил: императоров-де византийских свергали и ослепляли, а нам-де и бог простит…
Иван. Оболенский врет! С себя вину спихивает… Несбыточно! Оговор!.. Мстиславский чист!.. Не могу я корни рубить! (Хватает у него допросный лист.)
Малюта. Здесь Оболенский и про второй твой корень сказал… Читай ниже… Как его кнутом ударили, оговорил – Ивана Петровича Челяднина… Что-де он всему мятежу был заводчик и вождь…
Иван бросает лист, встает и ходит от стены к стене, засунув руки в карманы черного кафтана.
Ну, да Челяднин – гиена известная… Велишь взять его под стражу?
Иван. Челяднин! Его мать, Аграфена Ивановна, меня на руках вынянчила, оберегала от боярской злобы. Нам по три годочка было, обнявшись, сказки слушали да засыпали на лавке под треск сверчков… Он у трона мой скипетр держит… Богат несчетно… Взыскан у меня более, чем я у бога… Ищет терзать мои внутренности? Гиена! Все, все таковы! Ненавидят, строптивые псы, хозяина своего… Богатины ленивые… Идут от обедни, распустив брады, ладаном да розой помазанные, закатив зрачки – милостыню раздают… И так хотят жить, обнявши богатство свое перстами… И был бы я любезен им, сидя в синклите их, надувшись глупостью да ленью да им кивая… На плаху головы их! Пусть клянут! Грай вороний да лай собачий мне их вопли! (Обернулся в темноту.) Басманов!
Малюта (глядя на лист). Оболенский-Овчина еще и третьего оговорил…
Иван. Кого?
Малюта. Страшно сказать…
Входит Басманов. Иван подтаскивает его к свече.
Иван. Что не глядишь в глаза? Что бледен? Оговора боишься? Бойся – если виноват… Нынче мы этой свечой во все души светим… (Оставил Басманова, сел у стола, закрыл лицо руками и – спокойно.) Ступай на двор к Ивану Петровичу Челяднину… Возьмите его, в чем есть… Привезешь его на седле… Торопись…
Басманов. Как уж тебе и сказать-то, – подойти к тебе страшно… Иван Петрович Челяднин нами нынче на заре найден на берегу Неглинной, на куче навозной, убитый и ободранный… Из гостей он, что ли, конный ехал. Как он туда попал, кто его убил? И его стремянный лежит неподалеку…
Иван (Малюте). Кто убрал Челяднина?..
Малюта (вздохнул). Не знаю… Государь, не знаю.
Иван. Плохо метет твоя метла…
Басманов. По моему-то разуму, это дело Васьки Шуйского, – может, я дурак, не спорю, – это он… (Уходит.)
Малюта. А третьего он оговорил – князя Афанасия Вяземского.
Иван (вскочив). Афанасия! (Кидается в темноту.)
Малюта. Государь, ты к Дмитрию Петровичу? Он вряд ли говорить способен. (Берет свечу и уходит за Иваном.)
Бахчисарай. Высокий узкий зал ханского дворца, перегороженный занавесом. Перед занавесом стоят Годунов и ханский толмач – шустрый человечек в халате и туфлях.
Толмач. Ваш царь сидит на троне, а наш хан сидит на диване, превыше всех. По обе руки от него сидят царевичи – сорок четыре ханских сына.
Годунов. Сорок четыре сына! Сколько же хану лет?
Толмач. Хану не так много лет, – жен у него много.
Годунов. Тьфу, поганые.
Толмач. Не плюйся, за это у нас плетьми бьют. Но сегодня царевичей не будет. Они прохлаждаются на соколиной охоте.
Годунов. Зачем врешь. Время сейчас не для соколиной охоты.
Толмач. Думай, как хочешь… Ты пойдешь к хану по этому ковру. Иди, маленько приседая, – вот так… (Показывает.) Подступив к хану, упадешь на лицо.
Годунов. Да ты в уме! Русского царя послу перед крымским ханом на лицо падать? Не стану.
Толмач. Заставим, золотой, серебряный.
Годунов. Не знаю, как вы меня заставите. Касьян!
Появляется писец Касьян с большим мешком.
Шапочку достань кунью. (Толмачу.) Государь приказал тебе шапочкой этой кланяться.
Касьян достает шапку.
(Встряхивает ее, дует на мех и подает толмачу.) Носи во здравие.
Толмач. Шапочка, шапочка…
Годунов (угрожающе-твердо). Шапка!
Толмач. А на колени перед ханом стать можешь, золотой, серебряный?
Годунов. Поклонюсь хану перстами до полу.
Толмач. Ой, ой, ой! А с каким титлом будешь выговаривать царя Ивана?
Годунов. С великим титлом.
Толмач. Зачем тебе это нужно? Хан соскучится слушать.
Годунов. Кинжал будете приставлять к горлу – все равно скажу великий титл, с царем Казанским и Астраханским.
Толмач. Позволим только сказать: государь Иван Васильевич, царь Московский.
Годунов. Касьян, достань беличью шубу.
Касьян достает из мешка шубу, подает Годунову.
(Встряхивает ее и подает толмачу.) Государь велел тебе этой шубой кланяться, носи во здравие.
Толмач. Ай, ай, ай! Худая шубенка, рыжая, траченая.
Годунов. Ах ты, вор, собака! С государева плеча шуба!
Толмач (услышав шаги, поспешно прячет шубу под ковер на одном из диванов). Идет Мустафа, великий улан, кто у хана возлежит на сердце. Золотой, серебряный, кланяйся ему ниже.
Из-за занавеса появляется одноглазый мрачный татарин в халате и тюрбане.
Мустафа (Годунову). Ты что за человек?
Толмач (низко кланяясь). Борис Федорович Годунов, посол московский…
Мустафа. Ты привез письма к возлюбленному аллахом нашему хану Девлет-Гирею?
Годунов. Я привез письма и поминки.[244]
Мустафа. Дай мне. Скорее. Хан ждет…
Годунов. Мне велено письма отдать хану в собственные руки. А тебе не отдам.
Мустафа. Повинуйся мне, сын праха!
Годунов. Повинуюсь одному царю моему да богу нашему.
Мустафа (багровеет, хватает Годунова за грудь). Дай письма! Московит проклятый! Сын девки! Дай письма! Гяур, собака!
Годунов (пятясь). Я бы на коне сидел, ты бы меня, мужик гололобый, так не бесчестил, – я бы тебе дал отпор. Не рви мою грудь, я сюда не драться приехал.
Мустафа (из-за пояса выхватывает кривой нож и бесится, вертя им вокруг шеи Годунова). Нос отрежу! Уши оторву… Дай письма, – без головы останешься!..
Годунов. Ты, Мустафа, круг моей шеи ножом напрасно не примахивай, – мы смерти не боимся… Убьешь – одним мной у государя будет ни людно, ни безлюдно.
Мустафа. На кол тебя посажу!
Годунов. Врешь, этого с посланниками не делают! Касьян! Шубу соболью вынь из мешка…
Мустафа завращал глазом на толмача. Толмач встал лицом к стенке. Касьян достал шубу.
(Встряхнул ее и подал Мустафе.) Государь велел этой шубой тебе кланяться. Носи во здравие.
Мустафа. Это что за шуба?.. На худых пупках шуба.
Годунов. А и дурак же ты, Мустафа. Шуба на всех сорока соболях седых. Такой шубы у самого аллаха нет.
Мустафа. А ну, дай еще чего-нибудь.
Годунов. Опосля, вечером, приходи, найду какой-нибудь рухляди…
За занавесом послышалась музыка – зурна, деревянная дудка, бубен.
Мустафа. Ай, ай! Хан сел на место. (Исчезает за занавесом.)
Годунов. Касьян, скажи, чтоб несли поминки да вели бы рыцарей на арканах.
Касьян уходит.
(Толмачу.) Василия Грязного я где увижу?
Толмач. Грязного сюда же приведут. Его, золотой, серебряный, при тебе бить будут… Ох, не скупись…
Двое юношей появляются из-за занавеса и раздвигают его. На диване сидит хан Д е в л е т-Г и р е й в полосатом халате и чалме, украшенной драгоценными каменьями. У хана – крашеная красная борода, неподвижное лицо с насурмленными бровями. По сторонам от него сидят Воропай и турецкий посол, уланы и мирзы.
Мустафа. Хан, великий, непобедимый, тот, кто хитрее лисицы и сильнее льва, гроза царств и похититель миллиона миллионов пленников, исполнись милости, повели послу царя Московского подойти к тебе со страхом.
Ханкивает. Годунов подходит и кланяется, касаясь пальцами пола.
Годунов. Божьей милостью, государь Иван Васильевич, царь всея России, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Ливонский…
Воропай укоризненно закачал головой.
…царь Казанский, царь Астраханский…
Хан (заткнул пальцами уши). Ай-ай-ай!
Все мирзы и уланы заткнули пальцами уши и закачали головами, повторяя: «Ай-ай-ай».