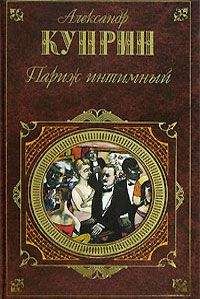Семьдесят пять лет – это не старость, даже не средний возраст для города, тем более что Пасси на наших глазах бешено застраивается, обновляется, подчиняясь строительной горячке.
Быстро бежит время, еще быстрее – человеческая предприимчивость. Скупаются наперебой далеко еще не старые, сорока-пятидесятилетние дома, причем о их стоимости никто и не говорит: ценится лишь количество метров в земельном участке. Разрушаются до фундамента милые, уютные, кокетливые особняки о двух-трех этажах, выстроенные как дачи для веселых дам Третьей империи, и на место их вытягиваются с волшебной скоростью к небу железобетонные великаны. Покрываются стройкой большущие запущенные сады и прелестные парки.
Совсем недавно, лишь прошлым летом, архитектор Маллэ-Стивенс построил на улице Доктор Бланш в модном вкусе архитектурное недоразумение, на которое и до сих пор, еще в декабре, приезжают поудивляться дальние парижане. О нем много говорили в газетах. По-моему, такое здание охотно одобрил бы для торговых бань в «каирском стиле» московский купец с модернистским уклоном. Кроме того, оно сбоку похоже своими узкими, длинными, забранными решеткой окнами на тамбовскую тюрьму, с фасада же напоминает: отчасти небрежно начертанную крестословицу, а отчасти табачную фабрику с гаражами внизу. Единственная радость для взгляда – его белизна на фоне неба, когда оно бывает густо– и ясно-голубым. Но мы посмотрим на эту белизну через год!
Стивенс еще не успел построить свой бестолковый дом, как все обитатели Пасси живо заинтересовались строительной затеей, характера необычайно грандиозного. Скуплен большой квадрат садов, домов и пустырей, лежащий между параллельными улицами – Ассомпсион – Рибейра и двумя пересекающими – Моцарт – Лафонтен: кусок, пространством в сорок-пятьдесят наших десятин. Все жилые помещения идут на ломку и снос. Вместо них построится сотня семиэтажных современных громадин; в каждой по сто входных лестниц и по двести квартир. Через пять лет вырастет целый город с населением – что там уездных Медыни или Крыжополя! – целой губернской Костромы... Какой размах!
Я думаю совсем о другом. Преобладающая доля этого большого участка принадлежала некогда женскому монастырю. Его церковь и общежитие были построены в XVIII веке. В пятидесятых годах прошлого столетия монастырь принимал на строгое, закрытое воспитание девиц из знатных фамилий. Теперь этот обычай остался далеко позади. О нем сохранилась последняя память только кое-где в романах Мопассана. При мне здесь помещался дорогой пансион для девиц из богатой буржуазии, – довольно чинный, но уже со многими, против прежнего, послаблениями, вроде тенниса, обучения новым танцам, отпусками по четвергам и субботам.
Вся площадь пансиона была обнесена высокой, в две сажени, оградой из крупного, серого, грубого булыжника и казалась непроницаемой для посторонних. Но иногда малая калитка в тяжелых железных воротах оставалась по случайности открытой, и я на несколько минут мог видеть великолепный запущенный парк, густые аллеи сплошных могучих каштанов и легкие цветники; все это, как рама для старого большого дома благородной архитектуры позапрошлого века и для прелестной маленькой белой церковки. Какое томительное очарование пробуждают в нашей душе эти кусочки, живые обрывки прошедшего, подсмотренные издали, сквозь щелочку. Теперь и церковь, и монастырский двор, и старый парк исчезли. Вместо них беспорядочными кучами громоздятся на земле камни и обрубки деревьев. Гм... Дорогу молодому поколению.
А не так давно покончили с чудесным замком Мюетт[75].
При Карле IX это был скромный охотничий домик, сборный пункт. Немая особа вовсе не была замешана в том, как назвали эту лесную сторожку. Здесь держались ловчие соколы в период линяния.
Muer, если перевести по-русски, значит «линять, сбрасывать рога» (у оленей).
Домик, переходя из рук в руки, расширялся, украшался, подвергался перестройкам в духе эпох, пока не сделался прекрасным дворцом. Там гостили: и Мария Медичи, и маркиза Помпадур, и королева Мария-Антуанетта. Туда привозила герцогиня Беррийская своего гостя Петра Великого... В последнее время им владели банкиры.
Этот замок на моих глазах разрушили в течение двух лет. Постепенно спадали в мусор исторические пристройки, одни за другими, от младших до пожилых, старых и древних.
Долго оставался лишь древнейший, первоначальный фасад, обнаженный, изуродованный, облупленный с боков, одиноко и печально высившийся над грудами камня и щебня. Но все-таки он казался неотразимо величественным. Всего – два этажа с чердаком, и – как красиво! Красота осталась только в пропорциях. Так строили в старину, строго подчиняясь разделению линии, по закону златого сечения, то есть по требованию абсолютного изящества.
В Пасси снесено с лица земли много чудесных замков – памятников старины (см. историю XVI округа Библ. Мэрии Огей). Но это относится не только к Пасси, а и к Парижу и ко всей Франции.
Среди американцев-миллионеров давно уже вошло в спортивное обыкновение покупать картины, статуи, библиотеки, мебель, посуду Старого Света. Теперь они стали покупать целиком старинные замки, церкви, чуть ли не целые древние города, с пейзажами, горами и озерами для того, чтобы восстановить это у себя в Чикаго или в Детройте. Конечно, честь им за уважение и внимание к чужой истории, но...
Но невольно, а может быть, и некстати, вспомнилось мне, как приехал я по делу молодым, безусым офицером в имение Соколовку, Рязанского уезда. Имение это раньше, со времен Екатерины, носило по своим настоящим хозяевам славное историческое имя. Потом перешло оно в другие руки, в третьи, пока не попало последовательно к купцу Соколову, припечатавшему его своей фамилией, а от него, наконец, купцу Воронину. В имении была торжественная въездная арка, был пруд, на пруде островок с колонной-беседкой. Там когда-то плавали лебеди. Была в доме восхитительная гостиная с паркетами из палисандра-эбена и красного дерева; со штофными толстыми струистыми стенными панно, теперь значительно ободравшимися. Там я сидел против купчихи Ворониной. Она, жирная, с заплывшими глазами, кумачово-красная от питья, грызла орехи и плевала скорлупой на пол.
Она была в ударе; она с трудом переложила обеими руками одну слоновую ногу на другую, лихо подмигнула мне глазком, дернула за сонетку, вышитую давным-давно милым бисерным рисунком, и крикнула:
– Лакей! Лакуза-а!
Вошел малый, босиком, в холщовых штанах, в жилете, из-под которого торчала грубая ситцевая сорочка.
– Чимпанскава барыне! – гаркнула купчиха. – Вот как мы, дворяне, нынче гуляем!
Лакей принес графин водки и соленых груздей в желтом бумажном картузе.
Есть книжки – возьмешь ее, пробежишь две-три страницы из начала, заглянешь в конец, бегло перелистаешь середину, и вот уже у тебя готово довольно верное представление о ее содержании и литературном весе. Но смешон будет тот читатель, который применит этот легкий способ для ознакомления с Библией.
Париж – одна из самых огромных, самых старых, самых трудных и, в то же время, самых живых человеческих книг. Десять лет можно настойчиво вчитываться в ее каменные страницы, чтобы потом сказать: «Теперь у меня есть что-то вроде ключа к изучению Парижа».
И все-таки чрезвычайно дороги для нас первые, мгновенные, непосредственные внешние впечатления. Я, например, через много лет могу воспроизвести в памяти лицо человека, дома, комнаты или улицы в двух видах – таким, каким оно впервые вышло на моментальном снимке моего зрительного аппарата, и таким, каким его впоследствии видел мой привычный, постоянный взгляд. Эти образы очень разнятся друг от друга, но первоначальный милее и ближе нашей душе. И он ярче.
Помню, как в первые дни по приезде в Париж я бродил ощупью по его улицам, ошеломленный, оглушенный, растерянный и подавленный его изумительной жизнью. И уже тогда меня занимала и даже раздражала неотвязчивая мысль – что же такое бесконечно знакомое и близкое видится мне смутно в этом страшном и прекрасном городе? Кому неизвестна эта утомительная работа памяти, когда мелькнет и потеряется в толпе очень знакомое лицо, и ты ломаешь голову целый день, стараясь с разбега восстановить имя и прежнюю встречу.
И, наконец, нашел, догадался.
Случайно увидел я в Латинском квартале, над улицей Турнефор, стаю любительских голубей, дружно плававших широкими кругами в высоком бледно-голубом небе, то чернея, то блистая крыльями на поворотах, и сказал: «Вот оно! Москва!»
Тогда мое ощущение этого сходства было почти бессознательно. Но многие из русских, на ком я его проверял, почти соглашались со мною: «И правда, здесь, пожалуй, есть что-то такое неуловимое...» Впоследствии я кое-что понял и объяснил себе, вероятно, не без маленьких натяжек.
В Париже и в Москве идешь по современной улице, блестящей зеркальными стеклами домов и великолепными витринами магазинов, кипящей движением, и вдруг маленький кривой переулочек направо, и сразу вступаешь в 18-й, в 17-й, а то и в 16-й век.