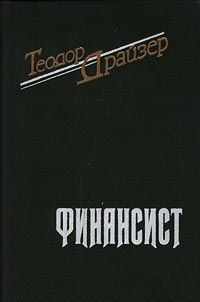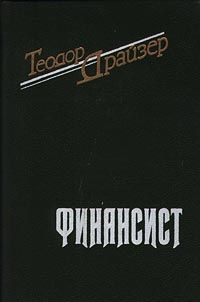На другой же день после суда Эйлин поехала взглянуть на зловещие серые стены тюрьмы. И так как она ровно ничего не понимала в сложностях закона и уложения о наказаниях, то тюрьма показалась ей особенно страшной. Чего только не могут сделать там с ее Фрэнком! Очень ли он страдает? Думает ли он о ней постоянно, как она о нем? О, как все это ужасно! Как обидно за себя, за свою горячую любовь к нему. Эйлин вернулась домой с твердым решением повидать его, но так как Каупервуд сказал ей, что посетителей допускают лишь раз в три месяца и что он напишет ей о дне свиданий или о возможности увидеться вне тюремных стен, то она не знала, как к этому приступиться. Осторожность прежде всего!
Однако на следующий же день она написала ему обо всем: о своей поездке в непогоду к зданию тюрьмы, о том, как ей страшно думать, что он находится за этими мрачными серыми стенами, и о своем непоколебимом решении как можно скорее с ним увидеться. В силу недавней договоренности с начальником тюрьмы это письмо было немедленно вручено Каупервуду. Он написал ответ и передал его Уингейту для отправки. Там говорилось:
«Дорогая моя девочка!
Я вижу, ты пала духом оттого, что мы не скоро снова будем вместе, но надо взять себя в руки. Приговор ты уже знаешь из газет. Меня привели сюда около полудня, прямо из суда. Будь у меня возможность, я тотчас же написал бы тебе подробно обо всем, чтобы тебя успокоить, но такой возможности у меня не было. Здешние правила этого не дозволяют: я, собственно, и сейчас пишу тебе тайком. Так или иначе, я прочно застрял в тюрьме, но, конечно, жажду из нее выйти. Прошу тебя, дорогая, соблюдай осторожность, если захочешь прийти сюда! Мне ты доставишь только радость и очень меня ободришь, но себе можешь нанести большой ущерб. К тому же я считаю, что и без того причинил тебе много зла, — больше, чем я смогу когда-либо искупить, и для тебя лучше всего было бы забыть обо мне, но я знаю, что ты этого не сделаешь, а если бы сделала, мне было бы очень грустно. В пятницу, в два часа дня, мне предстоит отправиться в суд по особым делам, это на углу Шестой и Честнат-стрит, но там мы не сможем увидеться. Меня поведет конвоир. Будь осторожна. Может быть, хорошенько подумав, ты решишь не искать этой встречи.»
Последние строки были проникнуты глубоким унынием, впервые вкравшимся в его отношения с Эйлин; но обстоятельства изменили Каупервуда. Раньше он мнил себя неким высшим существом, чьей благосклонности нелегко добиться, хотя, конечно, и Эйлин была женщиной, благосклонности которой стоит искать. Иногда ему казалось, что со временем эта связь оборвется сама собой, — ведь он может достичь таких высот, что Эйлин будет ему уже не пара. Да, такая мысль мелькала у него! Но теперь — в полосатой арестантской одежде — он смотрел на это иначе. Позиция Эйлин, ослабленная было ее долгой, страстной привязанностью к нему, значительно укрепилась. Преимущества были явно на ее стороне. Разве в конце концов она не дочь Эдварда Батлера, и разве не возможно, что после долгой разлуки она откажется стать женой каторжника? Она, собственно, должна оставить его, и, пожалуй, сама этого пожелает. С какой стати ей его дожидаться? Ее жизнь еще не загублена. Общество не знает, так по крайней мере ему казалось, или, во всяком случае, не все знают, что она была его любовницей. Она может выйти замуж за другого. Может навсегда уйти из его жизни. Как это было бы печально! Но вместе с тем разве он не обязан из простого чувства порядочности предложить ей порвать с ним или, по крайней мере, обдумать свое отношение к нему?
Он знал ее слишком хорошо, чтобы считать способной на такой поступок. И в его положении, чем бы это ни грозило ей, было огромным счастьем сохранить ее любовь — это связующее звено между ним и лучшими днями его прошлого. Торопливо набрасывая записку к Эйлин в присутствии Уингейта, который должен был ее отправить (надзиратель Чепин любезно вышел на это время из камеры Каупервуда, хотя, по правилам, должен был присутствовать при свидании), он, однако, не мог удержаться, чтобы в последний миг не высказать своих сомнений, и когда Эйлин прочитала эти строки, они поразили ее в самое сердце. В них сказалось все уныние, охватившее его, полный упадок духа. Видно, тюрьма — и как скоро! — все же сломила его волю, после того как он долго и отважно боролся. Теперь уж Эйлин всем существом жаждала ободрить его, проникнуть к нему, как бы это ни было трудно и опасно. «Я должна его увидеть», — сказала она себе.
Что касается посещения Каупервуда членами семьи — родителями, братьями, сестрой и женой, то он ясно дал им понять в один из тех дней, когда его водили в суд, что если бы даже они добились разрешения, им все же не следует навещать его чаще чем раз в три месяца, если, конечно, он не попросит их об этом сам или не даст им знать через Стеджера. По правде говоря, он пока еще не испытывал желания видеть кого-нибудь из них. Ему осточертел весь строй общественной жизни. Он хотел сейчас только одного — забыть суету, среди которой жил раньше и в которой, как оказалось, было мало проку. К этому времени Каупервуд уже успел истратить без малого пятнадцать тысяч долларов на судебные издержки, защиту, содержание семьи и прочее, но это его не волновало. Он надеялся кое-что заработать, орудуя через Уингейта. Его родные не остались совсем без средств, на скромную жизнь у них было достаточно. Он посоветовал им переехать в дома, требующие меньших издержек, так они и поступили: родители, братья и сестра перебрались в трехэтажный дом, приблизительно таких же размеров, как их старый дом на Батнвуд-стрит, а жена — в еще более тесный и дешевый двухэтажный домик на Двадцать первой улице, неподалеку от тюрьмы. На это переселение ушла часть тех тридцати пяти тысяч долларов, которые Каупервуд припрятал, после того как обманным путем выудил у Стинера чек. По сравнению с особняком на Джирард-авеню, новые жилища казались Генри Каупервуду страшным убожеством. Не оставалось и следа той роскоши, которая отличала их пышный дом на Джирард-авеню, — тут была готовая мебель, купленная в магазине, довольно красивые, но дешевые портьеры и прочие вещи. Опека, под которую перешло теперь все личное имущество Фрэнка и которой старый Каупервуд передал также и все свое достояние, не позволяла вывезти ничего сколько-нибудь ценного. Все должно было пойти с молотка в пользу кредиторов. От описи, произведенной уже довольно давно, Каупервудам удалось скрыть только несколько мелочей. Среди немногих предметов, которые старому Каупервуду очень хотелось оставить себе, был его письменный стол, сделанный на заказ по эскизу Фрэнка, но стол этот оценили в пятьсот долларов, и получить его можно было только по уплате шерифу этой суммы или путем покупки на аукционе, а так как у Генри Каупервуда таких денег не было, то стол попал в чужие руки. В домах было много вещей, которые всем хотелось сохранить, и Анна в буквальном смысле слова выкрала некоторые из них, в чем лишь много времени спустя призналась родителям.
Настал день, когда по приказанию шерифа в обоих домах на Джирард-авеню должны были состояться торги. Всякий мог теперь бродить по комнатам, рассматривать картины, статуи и другие произведения, переходившие в руки тех, кто предлагал наиболее высокую цену. Каупервуд был известен как любитель искусства и коллекционер: этой репутации способствовала не столько подлинная ценность того, что было им собрано, сколько отзывы таких знатоков, как Нортон Флетчер, Уилтон Элсуорт, Гордон Стрейк и другие известные архитекторы и антиквары, с чьим мнением и вкусом считались в Филадельфии. Очаровательные вещицы, которыми он так дорожил, бронзовые статуэтки эпохи расцвета итальянского Возрождения, заботливо подобранное венецианское стекло, скульптуры Пауэрса, Хосмера и Торвальдсена — вещи, которые через тридцать лет вызвали бы только улыбку, но высоко ценились в те дни, полотна видных американских художников от Гилберта до Йемена Джонсона, а также несколько образчиков современной французской и английской школ — все пошло с молотка за бесценок. В Филадельфии в то время не очень смыслили в искусстве, и потому некоторые картины, не получившие должной оценки, были проданы значительно дешевле своей настоящей стоимости. Стрейк, Нортон и Элсуорт пришли на аукцион и скупили все, что было возможно.
Сенатор Симпсон, Молленхауэр и Стробик тоже явились посмотреть, нет ли чего интересного. Была здесь и целая ватага политических деятелей помельче. Но самое лучшее из всего, что поступило в продажу, скупил Симпсон — трезвый ценитель подлинного искусства. В его руки перешла горка с венецианским стеклом, две высокие, белые с голубым, мавританские вазы, четырнадцать китайских безделушек из нефрита, а также несколько расписных сосудов и ажурный оконный экран нежнейшего зеленоватого оттенка. Молленхауэру за весьма невысокую цену досталась обстановка и убранство прихожей и гостиной Генри Каупервуда, а Эдварду Стробику — два гарнитура спальной под «птичий глаз». Адам Дэвис тоже почтил торги своим присутствием и приобрел письменный стол «буль», которым так дорожил старый Каупервуд. К Флетчеру Нортону перешли четыре греческие чаши, кувшин и две амфоры, которые он считал прекрасными произведениями искусства и сам же в свое время продал Каупервуду. Множество других превосходных вещей, в том числе севрский обеденный сервиз, гобелен, бронзу Бари и картины Детайля, Фортуни и Джорджа Иннеса, купили Уолтер Ли, Артур Райверс, Джозеф Зиммермен, судья Китчен, Харпер Стеджер, Тэренс Рэлихен, Трэнор Дрейк, мистер Саймон Джонс с женой, мистер Дэвисон, Фруэн Кэссон, Флетчер Нортон и судья Рафальский.