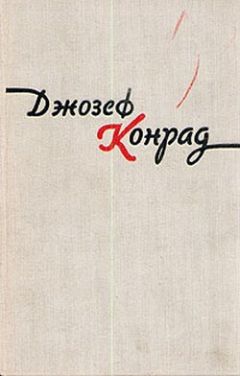Не заходя домой, Линда направилась к маяку. Настало время зажигать лампу. Она отперла низкую дверцу и тяжелыми шагами начала подниматься по винтовой лестнице башни, влача свою любовь к блистательному капатасу каргадоров, — позорные, замучившие ее кандалы. Но она их не сбросит. О, нет! Пусть расправятся с изменниками небесные силы. Медленно двигаясь по верхней части башни, где мгла мешалась с лунным светом, Линда осторожно зажигала лампу. Затем она бессильно уронила руки.
— И наша мама смотрит на все это, — пробормотала она. — Моя родная сестра… эта малышка!
Весь осветительный аппарат — медная арматура, ступенчатые призмы — блестел и сверкал как куполообразный бриллиантовый ковчег, источником света в котором служила не лампа, а некий священный огонь, владычествующий над морем. И Линда, смотрительница маяка, вся в черном, бледная, опустилась на стул, наедине со своей ревностью, вознесшись над земными страстями и земным стыдом. Приступ странной головной боли, будто кто-то вцепился в ее черные с бронзовыми бликами волосы и дергал изо всех сил, заставил ее поднести руки к вискам. Они встретятся сегодня. Они встретятся. Ей даже известно где. У окна. Боль нестерпимая… По лицу девушки катился пот, взгляд устремился туда, где лунный свет от берега до берега преградил огромным серебряным прутом вход в Гольфо Пласидо — угрюмую безмолвную пещеру, в которой пенятся буруны и клубятся облака.
Внезапно Линда встала, приложив палец к губам. Он ни ее не любит, ни сестру. Все это внезапно представилось ей таким бессмысленным, бесцельным, что она испугалась, и одновременно в ее сознании забрезжила надежда. Почему он не увез отсюда Гизеллу? Что ему мешает? Непостижимый человек. Чего они ждут? Что заставляет их обоих лгать и притворяться? Она не знает что, но только не любовь. Надежда вновь вернуть его заставила ее нарушить данную самой себе клятву не покидать этой ночью маяк. Нужно немедленно поговорить с отцом, ведь он очень умен, он поймет, в чем дело. Линда стремительно сбежала по винтовой лестнице вниз. В тот миг, когда она открыла входную дверь, до ее слуха донесся выстрел, первый выстрел на Большой Изабелле.
Она пошатнулась, словно пуля попала ей в грудь. Потом бросилась бежать и не останавливалась до самого дома. В окнах было темно. У дверей она закричала: «Гизелла! Гизелла!» — затем метнулась за угол к открытому окну их спальни, продолжая высоким, пронзительным голосом звать сестру; ответа не было, но когда она в полной растерянности снова кинулась к дверям, из дома выскочила Гизелла и пронеслась мимо нее, молча, с распущенными волосами, устремив вперед неподвижный взгляд. Она, словно на цыпочках, промчалась по траве и скрылась.
Линда брела медленно, вытянув руки вперед. На острове царила тишина и трудно было догадаться, куда идти. Дерево, под которым провел свои последние дни Мартин Декуд, представляя себе жизнь в виде вереницы бессмысленных образов, бросало на траву большое черное пятно тени. Неожиданно она увидела отца; опираясь на ружье, он стоял безмолвно, тихо, с головы до ног облитый лунным светом.
Гарибальдиец, высокий, прямой, с белоснежной бородой и волосами, был похож на статую и неподвижностью своей, и величавым спокойствием позы. Она тронула его за плечо. Джорджо не шелохнулся.
— Что ты сделал? — спросила она самым обычным, будничным тоном.
— Я застрелил Рамиреса… infame![138] — ответил он, гладя в ту сторону, где тень была чернее всего. — Как вор, явился он, и, как вор, погиб. Дитя нельзя было оставить без защиты.
Он не двинулся вперед ни на шаг, ни на дюйм. Стоял с ружьем в руке, нахмуренный, невозмутимый, старый человек, пришедший, чтобы оградить честь своего дома. Линда убрала дрожащую руку с его твердого и неподвижного, как камень, плеча и, не говоря ни слова, вошла в черную тень. Увидев, что на земле что-то шевелится, она остановилась. До ее слуха донесся лихорадочный шепот и плач, и, постояв немного, она стала различать слова.
— Ведь я просила, я умоляла тебя: не приходи сегодня, мой Джованни! И ты мне обещал. О, боже! Так зачем же ты… зачем же ты пришел, Джованни?
Линда узнала голос сестры. Потом послышались рыдания. И находчивый капатас каргадоров, владелец и раб сокровища Сан Томе, застигнутый врасплох старым Джорджо, когда он крался к лощине за серебром, ответил ей спокойно и беспечно, только голос его был как-то странно слаб:
— На то похоже, что я не мог дождаться утра, не повидав тебя еще разок, моя звездочка, мой цветочек.
Блестящая тертулья только что подошла к концу, только что отбыли последние гости, и сеньор администрадо́р удалился в свой кабинет, когда доктор Монигэм, которого этим вечером тоже ожидали, но не удостоились лицезреть, подъехал по торцовой мостовой безлюдной, освещенной электрическими фонарями улице Конституции к еще не запертым парадным дверям.
Он, хромая, поднялся наверх и обнаружил в большой гостиной вылощенного жирного Басилио, собиравшегося гасить огни. Столь позднее вторжение изумило почтенного мажордома, и он уставился на гостя разинув рот.
— Не тушите свет, — распорядился доктор. — Мне нужно видеть сеньору.
— Но сеньора сейчас в канцелярии сеньора администрадо́ра, — елейным голосом ответствовал Басилио. — Сеньор администрадо́р через час отправляется в горы. Есть опасение, что среди рабочих вот-вот могут начаться беспорядки. Совсем бессовестный народ, ни стыда, ни разума. И бездельники, сеньор. Бездельники.
— Сами вы бессовестный лентяй и болван к тому же, — сказал доктор, чья раздражительность столь успешно помогла ему снискать всеобщую любовь. — Сказано вам, не тушите свет.
Басилио с достоинством удалился. Доктор Монигэм, дожидавшийся в залитой светом гостиной, вскоре услышал, как в дальнем конце дома затворилась дверь. Прозвенели шпоры. Сеньор администрадо́р отбыл на рудники.
Шурша длинным треном, сверкая драгоценностями, блестя шелком вечернего платья, склонив изящную головку под тяжестью белокурых волос, в которых затерялись редкие серебряные нити, первая леди Сулако, как всегда именовал ее капитан Митчелл, прошла по коридору, баснословно богатая, уважаемая, любимая, почитаемая и такая одинокая, что, пожалуй, более одинокой женщины еще не было на земле.
Когда доктор произнес: «Миссис Гулд! Одну минуту!», она вздрогнула и остановилась у дверей ярко освещенной гостиной. Вид доктора, стоящего посредине пустой комнаты, воскресил в ее памяти ту давнишнюю, неожиданную встречу с Мартином Декудом; все повторилось — и ее душевное состояние, и окружающая их обстановка; ей показалось, что она снова слышит голос этого давно умершего человека: «Антония забыла здесь свой веер». Но это был голос доктора, правда, слегка измененный волнением. Она заметила, что у него блестят глаза.
— Миссис Гулд, я приехал за вами. Знаете, что произошло? Вы помните, как раз вчера мы говорили с вами о Ностромо. Так вот, случилось так, что «ланча», шлюпка с палубой, плывущая из Сапиги с четырьмя неграми на борту, проходила вблизи от Большой Изабеллы, как вдруг с берега раздался женский голос — это кричала Линда, — который велел им подойти к острову (ночь была лунная), взять раненого и отвезти его в город. Хозяин лодки — это он мне все и рассказал — немедленно повиновался. Лодка подошла с той стороны, где берег ниже; их уже дожидалась Линда. Она повела их к дереву, стоящему неподалеку от домика смотрителя. Там они увидели Ностромо, который лежал на земле, рядом с ним сидела младшая дочь смотрителя, а папаша Виола стоял поодаль, опираясь на ружье. Линда попросила их вынести из дома стол, у стола отломили ножки, после чего его можно было использовать как носилки. Они сейчас здесь, в городе, миссис Гулд. Я говорю о Ностромо и… Гизелле. Негры доставили его в больницу возле порта. Он попросил сиделку, чтобы послали за мной. Но не я ему был нужен — он хотел видеть вас, миссис Гулд! Вас!
— Меня? — прошептала она, слегка вздрогнув.
— Да, да, вас! Он попросил меня — своего врага, как он считает, — немедленно привести к нему вас. Судя по всему, он хочет сообщить вам что-то с глазу на глаз.
— Как странно! — пробормотала она.
— Он мне сказал: «Напомните ей, что я кое-что сделал для того, чтобы не обрушился кров над ее головой». Миссис Гулд, — в страшном волнении продолжал доктор. — Помните то серебро? Серебро, увезенное на баркасе… который потом утонул?
Она помнила. Но она не сказала, что ей невыносима даже мысль об этом серебре. Воплощенная искренность, она с ужасом вспоминала, что в первый и в последний раз за всю жизнь утаила истину от мужа именно из-за этого серебра. Страх повелевал ею тогда, и она никогда не простит себе этого. Мало того, это серебро, которое никто не стал бы увозить из Костагуаны, если бы ее мужу стали известны сообщенные Декудом новости, чуть не послужило косвенной причиной смерти доктора Монигэма. Ни о том, ни о другом она не могла думать без содрогания.