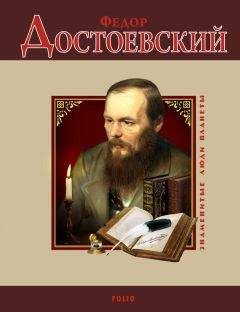Похолодев и чуть-чуть себя помня, отворил он дверь в контору. На этот раз в ней было очень мало народу, стоял какой-то дворник и еще какой-то простолюдин. Сторож и не выглядывал из своей перегородки. Раскольников прошел в следующую комнату. «Может, еще можно будет и не говорить», – мелькало в нем. Тут одна какая-то личность из писцов, в приватном сюртуке, прилаживалась что-то писать у бюро. В углу усаживался еще один писарь. Заметова не было. Никодима Фомича, конечно, тоже не было.
– Никого нет? – спросил было Раскольников, обращаясь к личности у бюро.
– А вам кого?
– А-а-а! Слыхом не слыхать, видом не видать, а русский дух… как это там в сказке… забыл! М-мае п-па-чтенье! – вскричал вдруг знакомый голос.
Раскольников задрожал. Пред ним стоял Порох; он вдруг вышел из третьей комнаты. «Это сама судьба, – подумал Раскольников, – почему он тут?»
– К нам? По какому? – воскликнул Илья Петрович. (Он был, по-видимому, в превосходнейшем и даже капельку в возбужденном состоянии духа.) – Если по делу, то еще рано пожаловали. Я сам по случаю… А впрочем, чем могу. Я признаюсь вам… как? как? Извините…
– Раскольников.
– Ну что: Раскольников! И неужели вы могли предположить, что я забыл! Вы уж, пожалуйста, меня не считайте за такого… Родион Ро… Ро… Родионыч, так, кажется?
– Родион Романыч.
– Да, да-да! Родион Романыч, Родион Романыч! Этого-то я и добивался. Даже многократно справлялся. Я, признаюсь вам, с тех пор искренно горевал, что мы так тогда с вами… мне потом объяснили, я узнал, что молодой литератор и даже ученый… и, так сказать, первые шаги… О господи! Да кто же из литераторов и ученых первоначально не делал оригинальных шагов! Я и жена моя – мы оба уважаем литературу, а жена так до страсти!.. Литературу и художественность! Был бы благороден, а прочее все можно приобрести талантами, знанием, рассудком, гением! Шляпа – ну что, например, значит шляпа? Шляпа есть блин, я ее у Циммермана куплю; но что под шляпой сохраняется и шляпой прикрывается, того уж я не куплю-с!.. Я, признаюсь, хотел даже к вам идти объясниться, да думал, может, вы… Однако ж и не спрошу: вам и в самом деле что-нибудь надо? К вам, говорят, родные приехали?
– Да, мать и сестра.
– Имел даже честь и счастие встретить вашу сестру, – образованная и прелестная особа. Признаюсь, я пожалел, что мы тогда с вами до того разгорячились. Казус! А что я вас тогда, по поводу вашего обморока, некоторым взглядом окинул, – то потом оно самым блистательным образом объяснилось! Изуверство и фанатизм! Понимаю ваше негодование. Может быть, по поводу прибывшего семейства квартиру переменяете?
– Н-нет, я только так… Я зашел спросить… я думал, что найду здесь Заметова.
– Ах, да! Ведь вы подружились: слышал-с! Ну, Заметова у нас нет, – не застали. Да-с, лишились мы Александра Григорьевича! Со вчерашнего дня в наличности не имеется; перешел… и, переходя, со всеми даже перебранился… так даже невежливо… Ветреный мальчишка, больше ничего; даже надежды мог подавать, да, вот, подите с ними, с блистательным-то юношеством нашим! Экзамен, что ли, какой-то хочет держать, да ведь у нас только бы поговорить да пофанфаронить, тем и экзамен кончится. Ведь это не то, что, например, вы али там господин Разумихин, ваш друг! Ваша карьера ученая часть, и вас уже не собьют неудачи! Вам все эти красоты жизни, можно сказать – nihil est,[92] аскет, монах, отшельник!.. для вас книга, перо за ухом, ученые исследования, – вот где парит ваш дух! Я сам отчасти… записки Ливингстона[93] изволили читать?
– Нет.
– А я читал. Нынче, впрочем, очень много нигилистов распространилось; ну да ведь оно и понятно; времена-то какие, я вас спрошу? А впрочем, я с вами… ведь вы, уж конечно, не нигилист! Отвечайте откровенно, откровенно!
– Н-нет…
– Нет, знаете, вы со мной откровенно, вы не стесняйтесь, как бы наедине сам себе! Иное дело служба, иное дело… вы думали, я хотел сказать: дружба, нет-с, не угадали! Не дружба, а чувство гражданина и человека, чувство гуманности и любви ко всевышнему. Я могу быть и официальным лицом и при должности, но гражданина и человека я всегда ощутить в себе обязан и дать отчет… Вы вот изволили заговорить про Заметова. Заметов, он соскандалит что-нибудь на французский манер в неприличном заведении, за стаканом шампанского или донского, – вот что такое ваш Заметов! А я, может быть, так сказать, сгорел от преданности и высоких чувств и сверх того имею значение, чин, занимаю место! Женат и имею детей. Исполняю долг гражданина и человека, а он кто, позвольте спросить? Отношусь к вам, как к человеку, облагороженному образованием. Вот еще этих повивальных бабок чрезмерно много распространяется.
Раскольников поднял вопросительно брови. Слова Ильи Петровича, очевидно недавно вышедшего из-за стола, стучали и сыпались перед ним большею частью как пустые звуки. Но часть их он все-таки кое-как понимал; он глядел вопросительно и не знал, чем это все кончится.
– Я говорю про этих стриженых девок, – продолжал словоохотливый Илья Петрович, – я прозвал их сам от себя повивальными бабками и нахожу, что прозвание совершенно удовлетворительно. Хе! хе! Лезут в академию, учатся анатомии; ну скажите, я вот заболею, ну позову ли я девицу лечить себя? Хе! хе!
Илья Петрович хохотал, вполне довольный своими остротами.
– Оно, положим, жажда к просвещению неумеренная; но ведь просветился, и довольно. Зачем же злоупотреблять? Зачем же оскорблять благородные личности, как делает негодяй Заметов? Зачем он меня оскорбил, я вас спрошу? Вот еще сколько этих самоубийств распространилось, – так это вы представить не можете. Все это проживает последние деньги и убивает самого себя. Девчонки, мальчишки, старцы… Вот еще сегодня утром сообщено о каком-то недавно приехавшем господине. Нил Павлыч, а Нил Павлыч! как его, джентльмена-то, о котором сообщили давеча, застрелился-то на Петербургской?
– Свидригайлов, – сипло и безучастно ответил кто-то из другой комнаты.
Раскольников вздрогнул.
– Свидригайлов! Свидригайлов застрелился! – вскричал он.
– Как! Вы знаете Свидригайлова?
– Да… знаю… Он недавно приехал…
– Ну да, недавно приехал, жены лишился, человек поведения забубенного, и вдруг застрелился, и так скандально, что представить нельзя… оставил в своей записной книжке несколько слов, что он умирает в здравом рассудке и просит никого не винить в его смерти. Этот деньги, говорят, имел. Вы как же изволите знать?
– Я… знаком… моя сестра жила у них в доме гувернанткой…
– Ба, ба, ба… Да вы нам, стало быть, можете о нем сообщить. А вы и не подозревали?
– Я вчера его видел… он… пил вино… я ничего не знал.
Раскольников чувствовал, что на него как бы что-то упало и его придавило.
– Вы опять как будто побледнели. У нас здесь такой спертый дух…
– Да, мне пора-с, – пробормотал Раскольников, – извините, обеспокоил…
– О, помилуйте, сколько угодно! удовольствие доставили, и я рад заявить…
Илья Петрович даже руку протянул.
– Я хотел только… я к Заметову…
– Понимаю, понимаю, и доставили удовольствие.
– Я… очень рад… до свидания-с… – улыбался Раскольников.
Он вышел; он качался. Голова его кружилась. Он не чувствовал, стоит ли он на ногах. Он стал сходить с лестницы, упираясь правою рукой об стену. Ему показалось, что какой-то дворник, с книжкой в руке, толкнул его, взбираясь навстречу ему в контору; что какая-то собачонка заливалась-лаяла где-то в нижнем этаже и что какая-то женщина бросила в нее скалкой и закричала. Он сошел вниз и вышел во двор. Тут на дворе, недалеко от выхода, стояла бледная, вся помертвевшая, Соня и дико, дико на него посмотрела. Он остановился перед нею. Что-то больное и измученное выразилось в лице ее, что-то отчаянное. Она всплеснула руками. Безобразная, потерянная улыбка выдавилась на его устах. Он постоял, усмехнулся и поворотил наверх, опять в контору.
Илья Петрович уселся и рылся в каких-то бумагах. Перед ним стоял тот самый мужик, который только что толкнул Раскольникова, взбираясь по лестнице.
– А-а-а? Вы опять? Оставили что-нибудь?.. Но что с вами?
Раскольников с побледневшими губами, с неподвижным взглядом тихо приблизился к нему, подошел к самому столу, уперся в него рукой, хотел что-то сказать, но не мог; слышались лишь какие-то бессвязные звуки.
– С вами дурно, стул! Вот, сядьте на стул, садитесь! Воды!
Раскольников опустился на стул, но не спускал глаз с лица весьма неприятно удивленного Ильи Петровича. Оба с минуту смотрели друг на друга и ждали. Принесли воды.
– Это я… – начал было Раскольников.
– Выпейте воды.
Раскольников отвел рукой воду и тихо, с расстановками, но внятно проговорил:
– Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором и ограбил.
Илья Петрович раскрыл рот. Со всех сторон сбежались.
Раскольников повторил свое показание…