— Ах, пожалуйста, не спеши! — возразила мать. — Мы еще обсудим это в кругу семьи…
— Мама, ведь это такая удача!
— Нет уж, извини, — ужасная неудача! Я примирилась с мыслью, что тебе придется работать, давать, например, уроки, но…
— Давать уроки? Какие? Я ведь не музыкантша и вообще ничего не знаю. Я невежественна, как чурбан.
— Перестань, пожалуйста. Воспитанная девушка всегда знает достаточно, чтобы учить детей. А ты что придумала? Ты, Роза Револю, будешь продавщицей в какой-то лавке!
— Извини, мамочка, не в «какой-то», а в книжной лавке — это совсем другое дело. Да, Дени, представь себе — поступаю к Шардону.
— К Шардону? У которого мы всегда покупали книги? Роза была оживлена, полна радостного возбуждения.
У Дени шевельнулось смутное чувство досады — чересчур уж ока радуется. Его раздражало, оскорбляло это ликование. Он резко сказал, когда вошли в ворота:
— У меня сегодня был Пьер.
— Ах, вот как! — тихо вскрикнула она.
Уже совсем стемнело, и Дени не мог видеть ее лица, но слышал, как дрогнул ее голос.
— Говорил он что-нибудь о Робере?
Дени буркнул: «Нет», — и с наслаждением вдохнул сырой воздух.
Как только вошли в прихожую, мадам Револю заявила:
— Мы ничего не можем решить, — пока не посоветуемся с Жюльеном, он— глава семьи.
Роза, не удержавшись, воскликнула с юной запальчивостью:
— Я не обязана советоваться с Жюльеном, как мне зарабатывать для него кусок хлеба!
Мать возмущенно вскинула голову; «Роза!» — и суровым тоном добавила:
— Он твой старший брат; этого, кажется, достаточно. А кроме того, он болен, тяжко болен.
— Верно, мамочка, верно!.. Ну что ж, сходим к нему, только сейчас же. Завтра я должна дать ответ Шардону.
Печей в доме не топили. «Эта лестница — сущий ледник!»— вздыхала мадам Револю. Она поднималась первая, держа в руке лампу; за ней шла дочь, а Дени замыкал шествие. На стене плясали три тени, срезанные ступенями лестницы. На площадке мадам Револю остановилась.
— Подождите, я пойду посмотрю, не спит ли Жюльен, — сказала она, передавая лампу Розетте.
Дени внимательно смотрел на сестру; только в эту минуту он заметил, как она переменилась. Все несчастья последних недель, словно удары молота, по-новому перековали ее лицо: ни одной детской черточки не осталось в нем; темные круги легли под глазами, тень подчеркивала впадины исхудалых щек и запавшие виски; нос заострился и словно вытянулся, что совсем ее не красило. Изящные хрупкие плечи стали худыми, угловатыми. У Дени сжалось сердце. А ведь для того, чтобы это страдальческое личико озарилось радостью, достаточно было шепнуть: «Пьеро приезжал поговорить со мной о Робере и о тебе…» Вернулась мать и поманила их рукой, приглашая войти в комнату.
Из полуотворенной двери поползло облако сизого дыма, запахло табаком. Жюльен чуть-чуть высунул голову из под зеленого пухового одеяла, выстеганного крупными клетками; голова была узкая, костлявая, как у облезлой птицы.
Болезнь, которой он вначале только прикрывался, теперь действительно завладела им. Созданное им для себя убежище замкнулось и стало темницей. В его тоске уже ничего не было притворного, он и в самом деле страдал атрофией воли и не мог принудить себя к самым простым действиям. Он заявлял, что хочет уйти от жизни, а жизнь сама уходила от него. Как только Розетта увидела брата, ей стало стыдно тех резких слов, которые недавно вырвались у нее. Она с жалостью глядела на брата и без всякого отвращения погладила его волосатую руку, торчавшую из обшлага рубашки.
— Сегодня чудесная погода, Жюльен. Солнышко грело совсем по-весеннему. Если б ты знал, как хорошо! Право, вот, кажется, все уж потеряно, и вдруг видишь, что у тебя все, все осталось. И солнечный свет, и деревья, и улицы, и люди…
Жюльен отвернулся к стене и заворчал:
— Отстаньте вы от меня… Не говорите. Не смейте со мной говорить.
Мать старалась успокоить его!
— Дорогой мой мальчик, мы сейчас уйдем, не будем мешать тебе. Мы хотели только спросить твое мнение.
— Нет, нет!.. Не надо! — закричал Жюльен. — Не хочу ничего знать… Никаких мнений у меня нет!..
— Да тут не о делах речь… Просто мы хотели спросить твоего совета — ты же старший сын. Кому же, как не тебе, решать, можно ли Розе поступить на то место, которое ей предлагают, — к Шардону, в книжную лавку…
— Пусть делает, что хочет, — забормотал Жюльен. — Все погибло. А раз все погибло, так чего уж теперь…
— Послушай, Жюльен, — сказала Роза, — ты, наверно, удивишься, но я ужасно рада… Знаешь, меня просто восхищает мысль, что я буду работать, стану одной из тех девушек, которые гурьбой высыпают на улицы, когда закрываются магазины… Начнется новая жизнь. Значит, у меня будут две жизни… была одна, а теперь другая. А что если б и ты тоже… Стоит тебе захотеть…
Жюльен перестал слушать и умоляюще захныкал:
— Пощадите меня, оставьте меня, уходите… За что вы меня мучаете?
И он натянул на голову одеяло. Мать сказала тихонько;
— Тут слова ничему не помогут, Роза. Замолчи, ты только его утомляешь. Ты же видишь, он затыкает себе уши. Ступайте. Пообедайте без меня, мне не хочется есть. Я побуду тут.
И она расположилась у кровати. Инстинкт подсказывал ей, что теперь эта комната станет и для нее убежищем, более того — здесь весь смысл ее существования. Она должна ухаживать за Жюльеном — вот и все. Больше ничего с нее не спрашивайте. Вот в чем ее обязанность, смысл жизни, ее долг. Для нее весь мир сосредоточится теперь в стенах этой комнаты, которую ее сын обратил в свою тюрьму. Она посвятит себя сыну, и о ней будут говорить: «Какая самоотверженная мать! Никогда ни слова жалобы!»
Ланден ждал, стоя у своего стула, и сел лишь после того, как Розетта и Дени заняли места за столом. Он видел гонкий профиль Розы. Она накинула на плечи шаль. Иногда она приподнималась, брала ломтик хлеба. И сестра, и брат избегали смотреть на Ландена, и его это смущало, так же как других смущает, если их слишком внимательно разглядывают. Дени порой даже отворачивался, чтобы не видеть лежавшую на скатерти руку Ландена, мохнатую, короткопалую руку с обгрызенными ногтями, — ведь человеческие руки словно носят на себе отпечаток тех действий, которые они производили, как будто постепенно формуются этими действиями.
Боясь поднять глаза от тарелки, Ланден делал вид, что он весь поглощен обедом, и ел с притворной жадностью; на его бороде оставались следы всех съеденных кушаний. Свет люстры играл отблесками на его шишковатом черепе. Ландену хотелось поскорее уйти из столовой и вместе с тем приятно было побыть с детьми покойного хозяина. Он тоже видел на скатерти руку — маленькую руку Розы, мочку розового уха, полоску шеи. Два юных прекрасных существа, сидевших в этой столовой, дышали одним с ним воздухом. Ланден внушал им ужас, но все же они сидели с ним рядом. Роза тяжело вздохнула. Ланден встал.
— Не хотите ли сыру, мсье Ланден?
— Нет, благодарю вас, мадемуазель. Это последний вечер. А мне нужно разобрать еще несколько связок бумаг и произвести опись. Не хватает кое-каких документов. Я не теряю надежды, что они найдутся в кабинете.
— Там, вероятно, уже затопили камин… А как поживает ваша сестра? Как ее здоровье?
— Благодарю вас, вы очень любезны. Сестра простудилась, прострел ее замучил, знаете ли, но теперь все прошло… Опять суетится, хлопочет…
Ответ его пропал впустую. Вопрос был задан только из вежливости, ибо здоровье старой девы нисколько не интересовало Розу Ревелю.
Ланден старательно запер дверь кабинета, где он собирался поработать в последний раз. Он сел в кресло за письменный стол, как и каждый вечер в течение трех недель, и, подперев голову руками, долго сидел неподвижно, наслаждаясь тишиной и глубоким покоем.
Мертвого уже не нужно бояться, он ничем не может обидеть — ни резким словом, ни презрением. Не может он оттолкнуть преданное сердце и больше не обороняется, не воздвигает преграду гордыни, защищаясь от внушенного им чувства, как то бывало при его жизни. Не надо больше пи щадить его, ни обманывать; даже когда человек называется Ланденом, а покойник был таким блестящим созданием, как Оскар Револю, этот живой Ланден может свободно отдаться странному и такому новому для него чувству— жалости. Ланден удивлялся, как может он испытывать жалость к человеку, который больше всех в мире вызывал у него восхищение. И он старался представить себе, какие муки терзали Оскара Револю в последние недели жизни. Несомненно, причиной его страданий было не столько расстройство в делах, сколько измена содержанки. Разумеется, он вел крупную игру и проигрался, но разве это уж так страшно? Он бы выправился, это сущий пустяк для такого человека. Если он не мог устоять на ногах, если денежные неприятности привели к катастрофе, то случилось это лишь потому, что все его мысли, все силы души были заняты только одним, поглощены были женщиной. И какой женщиной! Негодяйкой Лорати! «Но оттуда, где ты сейчас пребываешь, — шептал Ланден, обращаясь к умершему, — ты ведь видишь, наконец, какая это подлая тварь».

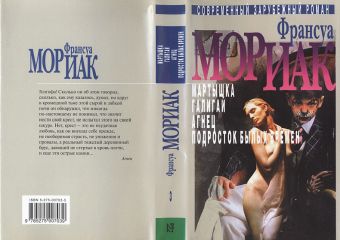
![Франсуа Мориак - Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/133897/133897.jpg)


