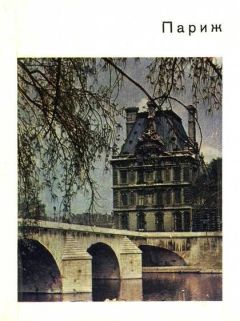Я вам сказал, что Лекадьё обладал даром блестящего красноречия. Несколько раз госпожа Треливан входила, когда он доставлял себе удовольствие вызывать перед удивленными детьми образы Рима, цезарей, двора Клеопатры, великих строителей соборов и позволял себе, с немного дерзким кокетством, продолжать при ее появлении свою речь, не прерывая себя. Жестом она делала ему знак продолжать и, проходя на цыпочках, садилась тихонько в кресло. «Да, — говорил себе Лекадьё, наблюдавший ее не переставая говорить, — ты думаешь, что многие великие ораторы менее интересны, чем этот молоденький ученик Нормальной школы». Возможно, что он ошибался и что, созерцая кончик своей туфли или сверкающие грани своих бриллиантов, она думала о сапожнике или о какой-нибудь новой драгоценности.
И все-таки она опять приходила. Лекадьё вел ее посещениям счет, о точности которого она не догадывалась. Если она являлась три дня подряд — «Она попалась на удочку!» — думал он. И, перебирая одну за другой фразы, в которые, казалось ему, он вкладывал тайный смысл, он старался вспомнить, какое впечатление производило это на госпожу Треливан. Здесь она улыбнулась; это слово, хотя и остроумное, оставило ее равнодушной; при этом немного вольном намеке она бросила на него удивленный и высокомерный взгляд. Если она отсутствовала в течение недели — «Все кончено, — говорил он себе, — ей со мной скучно». Путем тысячи хитростей он старался тогда незаметно выведать у детей причины, помешавшие их матери прийти. Объяснение было всегда самое простое. Она уезжала, или была нездорова, или председательствовала в дамском комитете.
— Видишь ли, — говорил мне Лекадьё, — когда узнаешь, что твои столь пылкие чувства бессильны вызвать ту же бурю в другом существе, то хотелось бы… И особенно ужасно неведение. Полная тайна мыслей другого — вот главная причина страстей. Если бы можно было угадать, что думают женщины, хорошее или плохое, то не было бы слишком сильных страданий. Можно было бы насладиться или отступить. Но это спокойствие, скрывающее за собой быть может любопытство, а может быть и ничего не скрывающее…
Однажды она попросила его порекомендовать ей несколько книг, и между ними завязалась короткая беседа. Четверть часа болтовни после урока превратились довольно скоро в привычку. Лекадьё постарался изменить официальный тон на тот тон шутки, одновременно серьезной и легкомысленной, которая почти всегда служит прелюдией к любви. Заметили ли вы, что в беседах между мужчиной и женщиной шутливый тон существует для того, чтобы замаскировать интенсивность желания? Как будто сознавая силу, которая их увлекает, и опасность, им угрожающую, они стараются оградить свое спокойствие деланным равнодушием своей речи. Тогда каждый штрих является намеком, всякая фраза — поворотом зонда, всякий комплимент — лаской. Беседа и чувство скользят по двум друг над другом расположенным планам, и план, в котором протекает разговор, может быть истолкован только как знамение и символ другого, где копошатся животные и смутные представления.
Этот пылкий юноша, мечтавший покорить Францию своим гением, снисходил здесь до разговоров о последних театральных постановках, о романах, даже о платьях и о погоде. Он являлся ко мне с описаниями жабо из черного тюля и белых токов с бантами в стиле Людовика XV. (Это была эпоха рукавов пузырями и шляп с высокими тульями.)
— Папаша Лефор был прав, — говорил он мне, — она не слишком умна. То есть, точнее, она думает только о том, что скользит по поверхности ее сознания. Но мне это совершенно безразлично!
Говоря с ней, он смотрел на руку, которую схватил Жюльен, на талию, которую обнял Феликс де Ванденес. «Каким образом, — говорил он себе, — можно перейти от этого церемонного тона, от этой напряженности к удивительной вольности обращения, вызываемой любовью? С женщинами, которых я знал до сих пор, первые жесты были лишь шутками, всегда доступными и даже спровоцированными, — все остальное уж следовало за этим. Но здесь я не могу вообразить себе даже малейшей ласки… Жюльен? Жюльену способствовали темные вечера в саду, прекрасная ночь, совместная жизнь… А я даже не могу видеть ее наедине».
Действительно, при них всегда находились двое детей, и тщетно Лекадьё подстерегал в глазах госпожи Треливан знак поощрения или взаимного понимания. Она смотрела на него с полным спокойствием, с хладнокровием, не поощрявшим к смелости.
Каждый раз, уходя из особняка Треливанов, он бродил вдоль набережных, размышляя: «Я трус… У этой женщины были любовники… Она старше меня по крайней мере лет на двенадцать, она не может быть слишком разборчивой… Правда, ее муж замечательный человек. Но разве женщины думают об этом? Так в чем же дело? Он пренебрегает ею, и она, кажется, смертельно скучает».
И он повторял себе с яростью: «Я трус… Я жалкий трус». Он презирал бы себя меньше, если бы знал о внутренней жизни госпожи Треливан то, что мне стало известно гораздо позже от женщины, игравшей при ней ту же роль, которую я играл при Лекадьё. Иногда случай приносит вам лет через двадцать то недостающее звено, которое вас страстно бы заинтересовало во время перипетий самого приключения.
Тереза Треливан вышла замуж по любви. Она была, как нам сказали, дочерью промышленника, но промышленника с вольтерьянскими и республиканскими идеями, — тип французского буржуа, очень редкий в наше время. Треливан во время одной из своих выборных кампаний был принят у родителей Терезы и произвел большое впечатление на молодую девушку. Это она настаивала на браке. Она должна была победить сопротивление семьи, опасавшейся не без основания репутации Треливана, любителя женщин и азартного игрока. Отец сказал: «Это гуляка, который будет тебя обманывать и разорит тебя». Она ответила: «Он переменится под моим влиянием».
Знавшие ее в то время говорят, что ее красота и наивность, ее жажда преданности, все это вместе составляло нечто очаровательное, против чего нельзя было устоять. Выходя замуж за еще молодого, но уже знаменитого депутата, она представляла себе впереди прекрасную совместную жизнь, посвященную чему-то вроде подвижничества. Она видела себя вдохновляющей речи своего мужа, переписывающей их, аплодирующей им; она будет ему верной поддержкой в трудные минуты, подругой незаметной и незаменимой. Словом, она претворила свою пылкость молодой девушки в очевидную страсть к политике.
Можно было догадываться, к чему приведет этот брак. Треливан любил свою жену, пока он ее желал, то есть около трех месяцев. Затем он внезапно перестал замечать ее существование. Насмешливый, реалистически настроенный, отличавшийся большой сдержанностью в проявлениях энтузиазма, он был более раздражен, чем соблазнен этой, быть может обременительной, пылкостью.
Наивность, импонирующая созерцательным натурам, раздражает активных людей. Он отклонил сначала нежно, затем вежливо и, наконец, сухо это домашнее сотрудничество. Первая беременность и предосторожности, с нею связанные, послужили ему предлогом, чтобы избегать своего дома. Он вернулся к подругам, более подходившим к его темпераменту. Когда его жена стала жаловаться, он ответил, что она свободна.
Твердо решив не разводиться, во-первых, из-за детей, во-вторых, гордясь именем, которое она носила, а может быть и не желая признаться перед своей семьей в поражении, она должна была привыкнуть ко многому: путешествовать одной со своими детьми, переносить официальные соболезнования друзей, улыбаться, когда ее спрашивали об отсутствии мужа. Наконец после шести лет одиночества, страшно утомленная, измученная смутной потребностью ласки, преследуемая, несмотря на разочарования, мечтой о любви совершенной и чистой, составлявшей всю красоту ее девичьей жизни, она взяла в любовники коллегу и политического друга Треливана, человека тщеславного, покинувшего ее в свою очередь по прошествии нескольких месяцев.
Эти два неудачных опыта внушили ей большое недоверие ко всем мужчинам. Она вздыхала и грустно улыбалась, когда при ней заговаривали о браке. Она была когда-то живой и остроумной молодой девушкой — теперь она стала молчаливой и вялой. Врачи имели в ее лице послушную больную, страдавшую неизлечимой неврастенией. Она жила в постоянном ожидании несчастья, смерти. Она совершенно потеряла ту очаровательную доверчивость, которая придавала ей столько прелести в молодые годы. Она считала себя неспособной к любви и недостойной ее.
* * *
Пасхальные каникулы прервали занятия детей и предоставили Лекадьё достаточно времени для размышлений, которые придали ему решимости. На следующий день после возобновления занятий он попросил у госпожи Треливан разрешения поговорить с нею наедине. Она подумала, что он хотел пожаловаться на одного из своих учеников, и увела его в маленькую гостиную. Следуя за ней, он был совершенно спокоен, как это бывает перед неизбежной дуэлью. Как только она закрыла дверь, он сказал ей, что не в состоянии больше молчать, что он живет только минутами, проведенными подле нее, что у него перед глазами всегда ее образ, — словом, объяснение самое искусное и литературное, — после чего он хотел приблизиться к ней и взять ее руки.