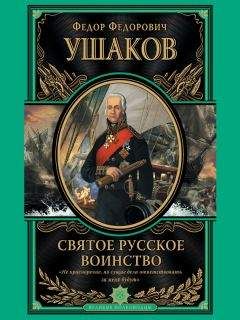У изголовья смертного ложа невидимо отдыхала душа; она еще не смела вылететь из хаты. Палагна обращалась к ней, к этой одинокой душеньке мужа, сиротливо жавшейся к недвижимому телу.
— Почему не заговоришь со мной, почему не взглянешь, не исцелишь ран моих? И уж не встретить мне тебя, муженек, на той дорожке, по которой тебя провожаю! — голосила Палагна, и грубый голос ее срывался на жалобных нотах.
— Хорошо голосит...— кивали головами старые соседки и слышали ответные вздохи, расплывавшиеся в шуме людских голосов.
— Мы вместе пастушили на пастбище... Раз как-то пасли овец, да и поднялся студеный ветер, будто зимой... Такая метель, света не видать, а он, покойник...— рассказывал хозяин- сосед соседям. И губы их шевелились при этих воспоминаниях, ведь полагалось утешить печальную душу, разлученную с телом.
— Ты ушел, а меня одну оставил... С кем же мне теперь хозяйничать, с кем скотиноньку обряжать? — вопрошала мужнину душу Палагна.
В раскрытые двери, прямо из темной ночи, вступали в хату все новые гости, преклоняли перед телом колени, и снова бросали на грудь Ивану деньги, и опять пододвигались на лавках люди, чтобы дать место вновь прибывшим.
Толстые свечи медленно таяли, обливаясь воском, словно слезами, бледное пламя лизало душный воздух, и синий чад смешивался с печальным запахом воска и испарениями тел, висел над глухим гомоном в хате.
Становилось тесно. Лицо склонялось к лицу, теплое дыханье смешивалось с дыханьем, потные лбы отражали блеск погребальных свечей, который зажег переменчивые огни на затканных канителью запасках, на поясах и сумках. А хата все наполнялась новыми гостями, уже толпившимися за порогом.
Тело зашевелилось. Белесые пятна, как лишаи, ползли по нему едва заметной тенью.
— Муж мой сладчайший, на беду ты меня оставил...— причитала Палагна.— Не будет кому в город пойти, и принести, и дать, и взять, и привезти...
А за окном скорбно повествовала об этом трембита, умножая ее горе.
Не достаточно ли уже причитаний для бедной души?
Эта мысль, по-видимому, таилась под тяжестью гнетущей печали, потому что у порога уже начиналось движенье. Еще несмело топали ноги, толкались локти, лишь временами гремела скамья, голоса рвались и смешивались в глухом гомоне толпы. И вот внезапно высокий женский смех рассек тяжелые покровы печали, прежде сдерживаемый шум вырвался, как вырывается пламя из-под шапки черного дыма.
— Эй, ты, носатый, купи у меня зайца! — басил молодой голос, и в ответ ему покатился подавляемый смех:
— Ха-ха! Носатый!..
— Не хочу.
Начиналась забава.
Сидевшие ближе к двери повернулись спиной к телу, готовые присоединиться к игре. Веселая улыбка разгладила их лица, за минуту перед тем искаженные печалью, а заяц переходил все дальше и дальше, захватывал круг все шире и шире и уже добирался до самого мертвеца.
— Ха-ха! Горбатый!.. Ха-ха! Хромой!..
Пламя свечей колыхалось от этого смеха, в горнице стоял чад.
Один за другим гости вставали с лавок и расходились по углам, где было тесно и весело.
На лице у мертвеца все разрастались пятна, словно затаенные мысли заставляли его шевелиться, беспрестанно меняя выражение. В поднятом уголке губ словно застыла горькая дума: что наша жизнь? Вспышка в небе, цвет черешни...
В сенях уже целовались.
— А кого выбираешь?
— Аннычку чернявую.
Аннычка будто бы не соглашалась и упиралась, но десятки рук выталкивали ее из толпы, и горячие уста прибавляли ей смелости.
— Иди, девонька, иди...
И Аннычка обнимала того, кто ее выбрал, и звонко целовала в губы при общих радостных криках.
О покойнике забыли. Только три старухи остались при нем и скорбно глядели стеклянными глазами, как по желтому застывшему лицу ползла муха.
Молодицы спешили принять участие в игре. С глазами, в которых не успел еще угаснуть огонь смерти и стереться образ мертвеца, они охотно шли целоваться с чужими мужьями, равнодушные к своим мужьям, также обнимавшим и прижимавшим к себе чужих жен.
Звонкие поцелуи раздавались в хате и соединялись с плачем погребальной трембиты, не перестававшей извещать дальние горы о смерти на одинокой кычере.
Палагна не голосила больше. Уже было поздно, и хозяйке надлежало принять гостей.
Веселье все разгоралось. Становилось душно, люди прели в овчинных безрукавках, дышали испареньями, чадом теплого воска и запахом трупа, который уже начинал разлагаться. Все говорили громко, будто забыли, почему они здесь, рассказывали о своих приключениях и смеялись. Размахивали руками, хлопали друг друга по спинам и подмигивали женщинам.
Не вместившиеся в хате разложили костер на дворе и совершали вокруг него веселые игрища. В сенях погасили свет, дивчата визжали, а хлопцы давились от смеха. Игра сотрясала стены хаты и волнами вопля билась о спокойное ложе мертвеца.
Желтый огонь свечей затмился в густом воздухе.
Даже старики приняли участие в забаве. Беспечный хохот шевелил их седые волосы, расправлял морщины и открывал гнилые пеньки зубов. Они помогали молодым ловить женщин, расставив дрожащие руки. Звенели мониста у молодиц на груди, женский визг раздирал уши, гремели скамьи, сдвинутые с места, ударялись о лавку, на которой лежал мертвец.
— Ха-ха!.. Ха-ха!..— катилось из красного угла до порога, люди сгибались от смеха вдвое, держась за животы.
Среди давки и тесноты нестерпимо трещала «мельница» деревянным треском.
— Что будешь молоть? — упорно выкрикивал мельник.
— Кукурузу...— проталкивались к нему дивчата, и ссорились между собой ряженые, с длинными бородами из пакли.
Тугой жгут, свитый из полотенца, мокрый и размашистый, со свистом хлестал по спинам направо и налево. От него убегали, опрокидывая среди хохота и крика встречных, подымая пыль и портя воздух. Пол дрожал от тяжести молодых ног, и тело на лавке подпрыгивало, и тряслось желтое лицо, на котором все еще играла загадочная улыбка смерти.
На груди тихо бренчали медные деньги, брошенные добрыми людьми на перевоз души.
Под окнами скорбно рыдали трембиты.
Октябрь 1911 г.
Чернигов
Текст по изданию: М. Коцюбинский. Повести и рассказы. Леся Украинка. Стихотворения. Поэмы. Драмы. / Вступительная статья, составление и примечания Ал. Дейча / Пер. с украинского. – М., Изд-во «Художественная литература», 1968. (Библиотека всемирной литературы, Серия третья. Литература XX века. Том 157)
В 1910 г., возвращаясь из Италии, Коцюбинский прожил некото¬рое время на Карпатах, среди украинских горцев — гуцулов. Природа и люди Гуцульщины очаровали писателя и дали материал для его повести «Тени забытых предков». В письмах к украинскому этнографу В. Гнатюку, с которым он вместе был в Криворовни, Коцюбинский не раз вспоминал Гуцульщину, которая «как волшебный сон раскинулась перед глазами».
На писателя произвели сильнейшее впечатление обычаи гуцулов, где еще стойко держались языческие представления, в частности вера в злых и добрых духов.
После опубликования этой повести Коцюбинский собирался снова на Гуцульщину, чтобы собрать материал «для большой повести из гу-цульской жизни». «Теперь я себе ставлю иное задание, нежели в «Тенях забытых предков», хочу присмотреться к гуцулам с иной стороны»,— писал он Е. Чикаленко 7 июня 1912 г. Но тяжелая болезнь помешала осуществлению этого замысла. (Прим. Ал. Дейча.)
Лысая гора. (Прим. автора.)
Штаны. (Прим. автора.)
Огороженный сенокос у села. (Прим. автора.)
Сухая пихта с сучьями, на которой сушится сено. (Прим. автора.)
Скот. (Прим. автора.)
Дикие вершины гор. (Прим. автора.)
Костер. (Прим. автора.)
Деревянная труба длиною в сажень. (Прим. автора.)
Дожди. (Прим. автора.)
Горная тропа. (Прим. автора.)
Навес для сена. (Прим. автора.)
Дощатый шалаш, в котором живут овчары и приготовляют сыр (брынзу). (Прим. автора.)
Коровий пастух. (Прим. автора.)
Шалаш для доенья овец. (Прим. автора.)
Козий пастух. (Прим. автора.)
Полка под крышей. (Прим. автора.)
Сыворотка. (Прим. автора.)