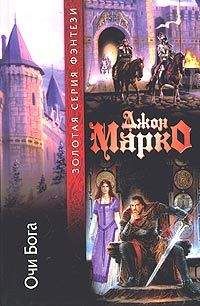«Какой же это князь-то, дедушка Матвей?»
– Будто не слыхал? Князь Василий Юрьевич Звенигородский с братом.
«С каким братом? Ведь их, говорят, трое у старого князя Юрия?»
– И вестимо, что трое: два Димитрия, да один Василий. Вот Василия-то называют Косой, одного Димитрия – Шемяка, другого – Красный.
«Ох, дедушка Матвей! не видал ты страсти! Как закричит на нас этот князь – ну вот так душа в пятки и ушла… И теперь руки не поднимаются – невесть что подеялось, как обморочили будто, – народ-то православный кто куда… А уж этот-то старик, что с нами-то ночевал – словно деревянный – меня вчуже за него морозом подрало по коже, а он стоит себе, глазом не смигнет».
– Полно калякать; запрягай-ка поскорее…
«Да где наши-то ребята, Бог весть…»
– Поищи их, а я пойду, разочтусь с хозяином, да оденусь; ведь я думал было, что добрых людей бьют, да выскочил нараспашку…
«А разве тут не добрые люди?»
– Полно, говорят тебе, не твое дело! Ты парень молодой, твоя стать слушать да молчать, молчать да слушать!
Дедушка Матвей пошел к дверям избы, оставя товарища под навесом; в раздумье ходил этот бедняк с места на место и не знал, за что надобно приняться. У дверей избы стоял рыжий толстяк, и едва дедушка Матвей хотел переступить через порог, толстяк тихо и угрюмо сказал ему: «Прочь! куда лезешь?»
– В избу, родимый, – отвечал дедушка Матвей униженным голосом, как говорят обыкновенно русские мужики, когда кто-нибудь пугнет их порядком.
«Нельзя! Пошел прочь!»
– Мне только взять шапчонку, да опояску, родимый!
«Успеешь после. Ну, что стал!»
Смиренно завернув полы своей шубы, дедушка Матвей пошел к воротам двора, подле которых стояли сани старика и трое саней княжеских. Извозчики и провожатые похаживали кругом саней и, забыв прежнюю ссору, мирно и весело разговаривали о лошадях, о дороге. Так всегда у нас: когда правда высказана кулаком – мир не за горами, а за плечами. Спутники князей улеглись в свои сани и закутались в теплые полсти и одеяла.
Скоро подошли к дедушке Матвею его товарищи, говоря, что лошади готовы.
«Ладно».
– Что же? Поедем, дедушка Матвей.
«Погоди! – Не так живи, как хочется, а как Бог велит», – проворчал он вдобавок.
– А разве опять…
«Погоди, говорят тебе!»
– Никогда не видал я его такого сердитого, – сказал один молодой парень другому.
«А когда дедушка Матвей сердит, так нам белугой выть приходится», – примолвил сухощавый Гриша.
Но что между тем делалось в избе, куда вошли князья и неизвестный старик и не велели никого впускать? Свидетелей после этого не могло быть, но мы узнали однако ж, ибо в жару беседы ни князья, ни старик не заметили, что хозяин, со страху спрятавшись за печку, слышал, наблюдал все и потом пересказал кому-то, тот другому, этот третьему. Нам досталось, конечно, из сотых рук. Послушаем. Не в первый раз люди услышат рассказ о важных делах по заметкам невежды, который делал их – сидя от страха за печкою.
И он, стрясая прах с ноги,
Поклялся местию до гроба:
«Иль он, иль я, иль пусть мы оба
Погибнем – лишь погибни он!..»
* * *
Быстро, скорым шагом вошел в избу князь Василий Косой и остановился подле стола; старик следовал за ним, снял шапку у входа и низко поклонился Косому, когда тот дал знак удалиться одному из людей своих, светившему им; князь Димитрий Шемяка вошел тихо, весело, снял при входе шапку, перекрестился на иконы, сел на лавку подле стола и, смеясь, смотрел на брата и старика. Свет жирника падал на его русское, цветущее лицо, выражавшее ум и какую-то беспечность, столь общую русским в молодых летах, когда ни одна страсть сильная не кипит в душе и не выражается на лице; кудри русых волос его и небольшая борода обрисовывали щеки румяные, придавая вид мужества молодому князю. Откинув верхнюю одежду, он открыл богатый терлик свой, с золотыми шнурками и пуговками, держа в руке дорогую соболью шапку. Щегольство видно было во всей его одежде.
– Не знаю, – сказал Косой, – не порадоваться ли мне этому несчастному случаю, когда он дал нам средство увидеть тебя, боярин Иоанн Димитриевич?
«И я тоже думаю, князь Василий Юрьевич. Почему же: несчастный случай? В своей семье горшок с горшком столкнется. Признаюсь тебе, князь, – нечего сказать, а я рад, когда мог видеть именно тебя…»
– Я желал бы прежде всего знать: давно ли мы стали называться своей семьею, боярин? – сказал Шемяка, улыбаясь. – Мы прежде были горшки не из одной глины.
«Кажется, – отвечал боярин, в недоумении смотря на Шемяку, – кажется, мне не нужно объяснять всего, что было в последнее время, и все это, князь, должно быть тебе известно?»
– Мне известно? Менее нежели кому-нибудь другому. Не люблю я вмешиваться не в свои дела; мне довольно забот с соколами и медведями: одних надобно вынашивать, других бить, а девичьи глаза, разве чего-нибудь не значат? Да это страшнее всякого медведя молодецкому сердцу.
Косой посмотрел с неудовольствием на брата и, как будто не обращая внимания на слова его, начал говорить боярину: «Я полагал, боярин, что ты в Твери, и никогда бы не думал здесь с тобою встретиться».
– Что тебе за надобность, куда едет и где живет боярин Иоанн Димитриевич? – возразил Шемяка, насмешливо улыбаясь. – Если тебе есть охота мешаться в чужие дела, то можешь спросить боярина, как бывает это невыгодно.
«Князь!» – вскричал боярин.
– О, боярин! это говорю не я, а вся Русь православная, не говорит, кричит, что боярин Иоанн Димитриевич не щадил ни забот, ни трудов, вмешиваясь в дела между дядею и племянником, хлопотал, трудился, чуть лба не пробил, кланяясь ханским прислужникам, а потом на себе узнал пословицу, что когда свои собаки грызутся, чужая не вступайся.
«Ты забываешь, брат, – вскричал Косой, – правило предка нашего: делу время, а потехе час. Твоя потеха совсем не ко времени».
– Вот? А я думал, что все мы давно забыли правила старых отцов наших, переросли их умом и почитаем речи их заржавелым мечом, который годится крошить окрошку на беседах, а более никуда.
«Ты выводишь меня из терпения!»
– Я? Чудо чудное! А я помню, как выходил ты из терпения, слыша, что по милости боярина Иоанна Димитриевича навсегда лишаешься одного словца при имени князя. Словцо неважное: Великий… Удержи гнев твой. Я помню еще, как гневался ты, слыша, что по уменью боярина Иоанна Димитриевича – дядя вел лошадь своего племянника перед татарским ханом, старик дядя бил челом безбородому отроку и клялся ему, как старшему и старейшему, в верности и подданстве!
«Если ты шутишь, то забава твоя, повторяю, никуда не годится; если же твои речи идут от сердца – не стыди себя: ты не младенец!»
– Боже мой, Создатель! – воскликнул Шемяка, – неужели только тем отличаем мы младенца от взрослого, что младенец не желает никому зла и бежит от злой беседы, тлящей обычаи благие, а взрослый сам накупается на злую беседу и на погибель души своей!
«Если не нравится тебе наша беседа, ты можешь удалиться».
– Благодарен; только ты забыл, что мне спрятаться некуда: ведь мы не в княжеском тереме, где столько перегородок и углов, что находят себе место укрыться и злоба, и ненависть, и измена. Здесь тесно и все наружи; что в ухо одному шепчут, то в ухе другого отзывается, будто звонкая русская пощечина. Я залег бы в наши сани, да ведь беседа ваша может так продолжиться, что я успею без покаяния отправиться на тот свет от лихого теперешнего мороза.
С досадою сел на лавку Косой и молчал. Старик злобно улыбнулся и, низко кланяясь, сказал ему. «Нечего делать, князь Василий Юрьевич! Прощай! Видно мне приходится морозить свои мысли и добрые речи в душе до приезда к твоему родителю! Я не знал, что тебя до сих пор водят на помочах меньшие братья…»
– И хорошо сделаешь, боярин, – с жаром воскликнул Шемяка, – если совсем заморозишь свои добрые мысли и речи, а не дашь семенам зла пустить корни в почву русской чести и семейного благоденствия князей!
«О! я умею возвращать их на гибель того, кто оскорбил меня хоть однажды в жизни… Не тем, так другим… Мономаховы потомки не все еще отказались от доблести и княжеской чести. Найдутся!» – Скрывая гнев свой, боярин промолвил ласково: «Добрый путь вам, князья!» – Он хотел идти.
– Нет! мы должны объясниться с тобою, – вскричал Косой. – Воле Божией угодно было указать тебе путь и нас направить по этому пути. Князь Димитрий! волею старшего брата я запрещаю тебе оскорблять почтенного боярина, или – клянусь тебе всем, что есть для меня на земле святого!.. ты дорого мне заплатишь за каждое свое безрассудное слово! Ты понимаешь меня?
«Понимаю! – печально сказал Шемяка, уклонив взор свой от горящих очей брата. – Но знай, князь Василий, когда напомнил ты о старшинстве, что не такой образец должен подавать старший младшему брату, какой подаешь ты! Я говорил тебе, как говорила бы тебе совесть, берегись теперь: совесть и я – мы отступаемся от тебя. Ты еще чист душою – отступись от этого старика, оскорбителя князей: на языке у него мед, под языком лед! Не хочешь? Гордость увлекает тебя? Знай же, что я умываю руки от твоих замыслов; имейте меня отреченна!»