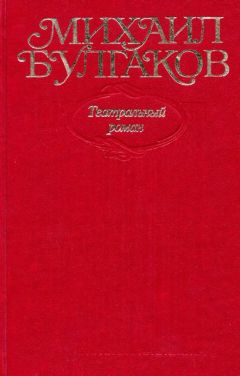М. А. говорил, что после всего разрушения, произведенного над его пьесами, вообще сейчас работать не может, чувствует себя подавленно и скверно. Мучительно думает над вопросом о своем будущем. Хочет выяснить свое положение.
На все это Керженцев еще более ласково уверял, что все это ничего, что вот те пьесы не подошли, а вот теперь надо написать новую пьесу, и все будет хорошо.
Про „Минина“ сказал, что он его не читал еще, что пусть Большой даст ему. А „Минин“ написан чуть ли не год назад, и уже музыка давно написана!
Словом — чепуха.
Вечером у нас Вильямсы и Шебалин. М. А. читал первые главы своего романа о Христе и дьяволе. Понравилось им бесконечно, они просят, чтобы 11-го придти к ним и читать дальше.
Петя сказал, что М. А. предложат писать либретто на музыку Глинки („Жизнь за царя“). Это — после того, — как М. А. написал „Минина“»!
Это была тревожная весть. И Булгаков, собравшись с силами, на следующий же день продиктовал Елене Сергеевне письмо Асафьеву: «На горизонте возник новый фактор, это — „Иван Сусанин“, о котором упорно заговаривают в театре. Если его двинут, — надо смотреть правде в глаза, — тогда „Минин“ не пойдет. „Минин“ сейчас в реперткоме, Керженцев вчера говорил со мной по телефону, и выяснилось, что он не читал окончательного варианта либретто.
Вчера ему послали из Большого экземпляр… Приезжайте для разговора с Керженцевым и Самосудом…»
Скорее всего «Жизнь за царя» «двинули», действительно прекрасная патриотическая опера, как раз то, что нужно было времени. И снова Булгаков, не найдя понимания у Керженцева, начал работать над письмом Сталину.
14 мая попросил разрешения придти журналист Добраницкий. Пришел в 10 часов вечера. Михаилу Афанасьевичу нездоровилось, извинился, что не может подняться и остался в постели. Настроение было отвратительное, письмо Сталину не получалось, никак не находились нужные слова, а главное — тон.
Добраницкий словно подслушал о разговорах в этой квартире.
— Михаил Афанасьевич, у меня есть поручение от одного очень ответственного товарища переговорить с вами по поводу вашей работы, узнать ваше настроение и заверить вас, что вы всегда можете рассчитывать на поддержку… Теперь точно выяснилось, что вся эта сволочь в лице Киршона, Афиногенова, Авербаха и других специально дискредитировала вас, чтобы уничтожить, иначе они не могли бы существовать как драматурги и писатели… Вы — лучший драматург, вы очень ценны для республики…
«Сейчас заговорит, чтобы я написал если не агитационную, то хоть оборонную пьесу, или чуть потопчется вокруг моего имени, раскуривая начатый фимиам?» — горько размышлял Булгаков, всматриваясь в этого толкового журналиста.
— Киршона, Литовского, Афиногенова мы выкорчевываем, это не так просто… Но надо исправить дело, вернувши вас на драматургический фронт…
— «Вот-вот началось, уже мы оказались на общем драматургическом фронте», — мелькнуло у Булгакова.
— Ведь у нас с вами оказались общие враги и, кроме того, есть общая тема — Родина. Вот увидите, в самое ближайшее время на культурном фронте произойдут большие перемены.
Добраницкий пообещал помогать в работе, он может достать любые книги, необходимые Булгакову для будущей работы.
На следующий день пришел Дмитриев. Елена Сергеевна всегда радовались приезду этого талантливого гостя. И любила слушать их разговоры. «Оба острые, ядовитые, остроумные», — думала она в эти минуты.
И на этот раз Дмитриев ошеломил:
— Пишите агитационную пьесу!
— Скажите, кто вас подослал? — спросил Булгаков, улыбаясь.
— Довольно! — заговорил Владимир Владимирович серьезно. — Вы ведь государство в государстве! Сколько это может продолжаться? Надо сдаваться, все сдались. Один Вы остались. Это глупо!
И долго еще крутилась все одна и та же тема. Да, решил Булгаков, надо обращаться наверх.
5
Потрясающие, новости следовали одна за другой. Самоубийство начальника политуправления Красной Армии Гамарника. Арестованы Тухачевский, Уборевич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Примаков, Путна, Якир. Состоявшийся скорый суд всех приговорил к расстрелу.
Приговор приведен в исполнение на следующий день после приговора. Последовали аресты среди высшего командного состава… Во многих учреждениях, в том числе и театрах, происходили митинги, на которых принимали резолюции, требовали высшей меры наказания для изменников.
Неожиданно для всех рухнул всесильный директор МХАТа Аркадьев. Еще вчера он уверенно давал интервью «Правде» о поездке в Париж, а на следующий день в той же «Правде» дано потрясающее сообщение — Аркадьев уволен из Театра «за повторную ложную информацию о гастролях в Париже и репертуаре» и «за прямое нарушение решений правительства».
И радостное событие — Литовский уволен с поста председателя Главреперткома. Карающий меч Немезиды вновь ударил по врагам Булгакова. Может, что-то изменится и в его судьбе?
Озадачила статья в «Правде» «Профессор — насильник-садист». Рассказывалась какая-то чудовищная история о профессоре Плетневе: будто бы года два тому назад профессор, принимая пациентку, укусил ее за грудь, развилась какая-то неизлечимая болезнь. Пациентка начала судебное преследование профессора. «Бред какой-то», — так оценила это сообщение Елена Сергеевна, записывая об этом в дневник.
Порадовались за Мелик-Пашаева, награжденного орденом Трудового Знамени, и за Якова Леонтьева, которому дали Знак Почета.
Много сил и времени отнимала работа в Большом театре. Булгакову приходилось читать, редактировать, а порой и просто переписывать оперные либретто. И чаще возникало недоумение… Вот, например, прочитал он либретто «Арсен»… Дал отрицательный отзыв. Звонит Самосуд, приглашает поговорить об «Арсене». В ходе разговора оказалось, что уже подписан договор на либретто. «Так зачем давать на отзыв? — недоумевал Булгаков. Или все тот же Самосуд прислал к нему Соловьева-Седого с началом оперы. Булгаков провозился с ним не один час, а вечером рассказывал Елене Сергеевне:
— Соловьев — бесспорно талантлив, мелодичен, быстро схватывает то, что я мог ему подсказать. Но я был бессилен, чем-либо ему помочь. Нет либретто, какие-то обрывки, конечно, из колхозной жизни и жизни пограничников. Самосуд предлагает мне написать либретто, а у Соловьева-Седого уже есть либреттист в Ленинграде. Соловьев просит: „— Вы пишите, Михаил Афанасьевич!“ А я ему отвечаю: „Что писать, Василий Павлович? Откуда я знаю, что дальше произошло? А главное, куда девать вашего соавтора, живущего в Ленинграде и уже представившего вот эти наброски либретто. Ведь вы уже с ним обвенчаны!“ Конечно, Василий Павлович расстроен, видно же, что со мной работать ему больше по душе. Пришлось его упокоить. „— Вы пишите с Воиновым, как вы начали, — говорю ему. — А когда у вас будет сценарий, я вам помогу, посоветую, не входя в вашу работу в качестве соавтора“. Вроде бы удалось его успокоить.
— А ты читал, — спросила Елена Сергеевна, — что Киршон, Лернер, Санникова, Городецкий привлечены к уголовной ответственности за их деятельность в Управлении авторских прав?
— Да, читал, но знаешь, даже это вроде бы приятное сообщение не обрадовало меня. Ужасное настроение. Что-то происходит со мной, те же ощущения, как будто мне снова отказали в заграничной поездке. Помнишь? Тогда я стал бояться ходить по улицам один, и ты провожала меня в Театр, а потом отводила обратно домой… Что-то страшно мне…
— Не паникуй… Время вроде бы поворачивает в твою сторону. С кем ни встретишься — все об одном: „Теперь со всеми событиями в литературной среде положение Булгакова должно измениться к лучшему!“
— И не жди! Не будет этого… Помнишь встречу в арбатском переулке с журналистом Перельманом? Он тоже заговорил о том, что мое положение сейчас изменится к лучшему, потому что я не продал себя и не участвовал во всей этой кутерьме. И тут же задал вопрос: „Сколько вы получаете от „Турбиных“ и „Мертвых душ“… Ну можно ли с такими людьми ждать чего-нибудь хорошего. Если б ты знала, как убивают меня встречи с такими людьми.
— А я все-таки жду хорошего! — твердо сказала Елена Сергеевна. — Недавно я разговаривала с Яковом Леонтьевичем. У него был разговор с Керженцевым о тебе и, между прочим, о „Турбиных“. О том, что их можно бы теперь разрешить по Союзу. Керженцев может это разрешить. Но все-таки Яков посоветовал сходить к нему и поговорить с ним о всех своих литературных делах, о запрещениях пьес, спросить — почему „Турбины“ могут идти только во МХАТе?
— Никуда я не пойду. Ни о чем просить не буду. Никакие разговоры не помогут разрешишь то невыносимо тягостное положение, в котором мы оказались. Представляешь, сегодня раздался телефонный звонок. Адриан Пиотровский заказывает из Ленинграда сценарий. Сначала я отказался, но потом из любопытства спросил: „— На какую тему?“ — „Антирелигиозную!“ А ты говоришь, что что-то изменилось.