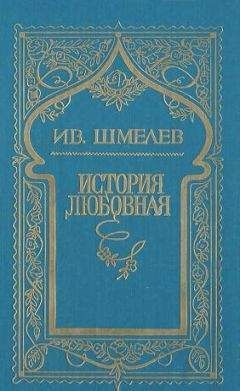Все так и закатились.
– Зато у них благородные манеры! – заспорил я. – У них визитные карточки на серебряной тарелочке!… И все красиво и благородно.
– Ты-то это откуда знаешь, перец! Всем дырам покрышка! – удивилась сущевка-тетка. – Правда, барышни у них субтильные, красивенькие… одна за полковника выходит… И карточки на блюдечке подает человек…
Я вспомнил Зинаиду, и сердце забилось-затомилось.
– Они далеко от вас? – спросил я тетку.
– Соседи наши, да дом заложен. Зато каждую субботу танцы, рояль напрокат берут. Люди ко всенощной, а они тра-ля-ля! То забирали у нашего Зайчикова закуски, а намедни назвали гостей, а им отказ: ни колбасы, ни мадеры не отпустил. Ну, ла-пинской воды уж сама старуха выпросила, две бутылки!
Мне стало больно за бедность их. «Барышни у них красивые!» Но если красивые, к их ногам принесут все сокровища! Все миллионеры будут рады, да только их отвергнут, скажут – «не в деньгах счастье!» Недавно я смотрел у Корша «Не в деньгах счастье!» И я сказал, видя, что Паша слушает:
– Русская пословица говорит, что «не в деньгах счастье»! Были случаи, что и бедная девушка выходила замуж… даже за князя! Когда она достойна. А доктор Устриков женился на горничной… из Голицынской больницы!… «Счастье – в самом себе», у нас сочинение было…
Опять все захохотали. Я даже рассердился:
– И они выйдут замуж за миллионеров! А у Лощенова-мясника какие быки громадные и три дома, а сами, мамаша, говорили, что уроды очень и в девках засядут! А смеяться нечего над бедными, но благородными!…
Опять покатились все, а тетка подавилась телятиной. Все стали бить ее по горбу. Паша так старалась, что тетка стала ее ругать: – Обрадовалась, дура! Кулаки, как у хорошего мужика.
Наконец успокоились и стали хлебать миндальный кисель со сливками. Паша смотрела на меня от двери, держала у сердца руку. Там лежали мои стишки. Она благодарила меня чудесными синими глазами. Сегодня я будто впервые увидел их: они говорили мне! Смотрела из них другая Паша, тайная, с которой у меня что-то, которую никто не знает, которая так хорошо шептала – «ну… что?» – не обыкновенная Паша, а… же-нщина! Они были сегодня синей и больше, и напомнили мне – круглотою своей и блеском? – «девочку с синими глазами» в картинной галерее, рядом с нашей гимназией. В эту девочку был влюблен пятиклассник Букин и собирался даже ее стащить, и все называли эту картинку «Букина девчонка». Но живая Паша была красивей. Сенька Волокитин, заходивший, бывало, к нам, – его прогнали за книгу «Парижские камелии», которую он притащил раз сестрам, – сказал мне как-то: «А знаешь, ваша Паша похожа на одалиску из Индии! У ней глаза полны восточной неги!» И принес мне картинку из «Нивы», с «одалиской». Одалиска мне нравилась, но была толста и почти голая, а Паша худенькая, и… я ни разу ее не видал без платья. Сегодня только, когда она щелкнула подвязкой, я подумал, какая она будет…
Я вспомнил «одалиску» – это все равно, что «гетера»! – и посмотрел на Пашу. У Паши глаза смеются и сверкают, а у той сонные, усталые. И у Паши глаза что-то хотят сказать. И жалуются, будто… Да, словно хотят сказать:
«Только вы одни, Тоничка, любите меня и всегда заступаетесь!»
Мне хотелось показать ей, что я всегда готов заступиться, и ждал, когда забранят ее. Когда мать сказала, поймав у ней пятнышко на груди:
– Франтиха, а неряха!… Я не вытерпел и сказал:
– А вот на пирах у римлян рабы надевали даже венки из роз на свои головы, чтобы капли пота не стекали на кушанья… у Иловайского есть!…
– Ну и дураки! – сказала тетка.
Намека никто не понял, но Паша опять радостно на меня взглянула. И я подумал: если бы ей венок!…
Когда я пил квас в передней, Паша сносила посуду в кухню. Она осторожно спускалась с лестницы, а я перегнулся через перила и кинул ей на тарелки крымское яблоко. Оно упало в соус из-под телятины и забрызгало ей лицо и фартук. Она вскрикнула от испуга, увидала, что это я, и так взглянула, что у меня повернулось в сердце.
– Всю загваздали… баловник!… Что теперь мне за это будет!…
А глаза ласково смотрели.
– Миленькая, прости!… – зашептал я растерянно, – сюрприз я тебе хотел…
– И что вы только со мною делаете, – шептала она с укором. – Еще увидят…
– Я тебе куплю новый фартук, у меня есть в копилке!… Но она уже сошла в кухню. А я убежал к себе и упал на кровать, не зная, куда мне деться. Что-то со мной творилось. Неужели я так влюбился?! Без Паши мне было нестерпимо. Я только о ней и думал. Вспоминал – с самого утра, как было. Нет, раньше, гораздо раньше! Вечером сочинил стихи. Она принесла подснежники, думала обо мне. Конечно, она влюблена в меня, с самой Пасхи. Первая потянулась целоваться. Нет, раньше, когда примеряла кофточку. Переговаривалась за дверью, нарочно стучала щеткой. Хотела меня увидеть, открыть окно. Сама зацепила за ногу… прибежала прочесть билетик! Ревнует даже! С каждым часом она милее. «А если придет к тебе ночью с распущенными волосами?» – вспомнились слова Женьки. Темное, что я знал, стояло во мне соблазном тайны. Я вспомнил один случай.
…Первый весенний день. Слепит совсюду. Огромная лужа на дворе, плавают в ней овсинки, утиный пух. Под бревнами у сарая почернело, капает с крыш, сверкает. Падают хрустальные сосульки, звонко стучат о бревна и разлетаются в соль и блеск. На бревнах сидит кучер, расставив ноги, и что-то смотрит. Кругом скорняки смеются, гогочет Гришка. Все головы суются: что-то показывает кучер, прячет… Я прохожу из сада. Гришка загадочно моргает:
– Глядите, какого жучка поймали!
Кучер и скорняки смеются. Гришка что-то такое держит, ладони у него корытцем.
Я подбегаю, наклоняюсь. Гришка подносит к носу, и я вижу в грязной его пригоршни…
– Во, жучок-то!… Меня оглушает гогот.
Коричневая картонка, пятна, две фигурки… высокий клобук монаха, другая – с распущенными волосами… Мне стало тошно, словно пропало сердце. Стало невыразимо гадко, и я побежал по луже. А сзади гоготали:
– Во, жучок-то!…
– Он еще етого не зна-ет!… – сказал кучер. – Только, Тоня, смотрите не скажите, а то и вам попухнет… – Пороть будут! – смеялся Гришка. – Это только мужское дело…
Я обернулся и увидал Пашу. Она выбежала с коврами, чистить.
– Иди скорей! – закричал ей Гришка. – Гляди, мохнатенького жучка поймали!…
Крикнуть? Как онемелый, я наблюдал из лужи. Она с любопытством подбежала.
– А ну, покажьте?…
Гришка поднес ей в горсти, под самый подбородок.
– Тьфу вам, охальники!… Она отскочила, заплевалась.
Тогда эта «грязь греха» мутила меня весь день. Теперь – я томил себя. Паша манила тайной. Я слышал ее шаги, шелест вертлявой юбки, притихший шепот – «ну… что?»… Ласковые ее глаза манили.
…И вдруг я на ней женюсь? Можно так горячо влюбиться, как доктор Устриков, из Голицынской больницы. Он влюбился в сиделку, в простую девушку, у которой отец извозчик, а мать кухарка. Такая была красавица! Вот и Паша… А граф в Кускове! Это и Паша знает. Когда мы в Кускове жили… И песню знает: «Вечор поздно, поздно из лесочку я коров домой гнала… едет барин важный, две собачки впереди, два лакея позади!…» И он в нее влюбился, страстно, женился на ней и сделал образованной. Графиней стала. Так и я: возьму и женюсь на Паше!…
…Кончу гимназию и женюсь, уедем… У ней, в Смоленской губернии, много лесов, буду лесничим, займусь охотой, а она будет вести хозяйство и воспитывать малюток. В лесах хорошо, раздольно. Вспашем небольшой клочок поля, выжжем лес, как переселенцы в Канаде. И зимними вечерами, когда кругом мертвая лесная глушь, будем сидеть у пылающего огня, обнявшись, совсем одни… и спокойное дыхание нашего малютки будет напоминать нам о нашем счастье. Всевышний благословит нашу дружную, полную любви и взаимного уважения жизнь… Это же самое благородное – жить своими трудами, в поте лица есть хлеб! К нам будут изредка заезжать гости – приедет Женька! – и будут удивляться нашей суровой жизни. Я, в охотничьих сапогах, с ружьем, поведу гостей на охоту за тетеревами и зайцами… – «хотите, и на медведя можно?» – а Паша, как лесная царица, в венке из лесных цветов, будет поджидать нас к обеду, простому, но сытному – глухарь на вертеле и «лесная» похлебка с грибами, – и покачивать колыбель младенца. И гости скажут: «Да, вы создали удивительную жизнь, полную удивительной поэзии, в дружественном единении с природой!» – «Да, – скажу я, – это простая жизнь, полная, может быть, лишений… но я, как говорит Лев Толстой, не променяю ее ни на какие богатства ваших душных городов, где люди утратили первобытное блаженство!» И Паша будет глядеть на меня благодарными глазами. Гости уедут, и мы сольемся с ней в дружном, святом объятии…
Так мечтая, я унесся в детство, и мне вспомнилась худенькая Таня, деревенская девочка лет восьми. Мне было тогда лет девять. Она мне нравилась до стыда, и на меня нападала робость, когда я встречался с ней. Слово – «Таня» – и все для меня светилось. Это была моя первая, детская любовь. Сладкое замиранье овладевало мною, когда я видел ее хотя бы издали. Я передарил ей все, что только у меня было: хрустальные шарики от солитера, египетскую марку, часовой ключик, яичко с панорамой, пушечку, павлинье перо, все редкости. Это было – благоговейное обожание, восторг. Когда я случайно ее касался, по мне пробегало, как сотрясение. И это, похожее на щекотку, мне очень нравилось. Как детям, – когда пугают! И ничего «грязного» я не знал.