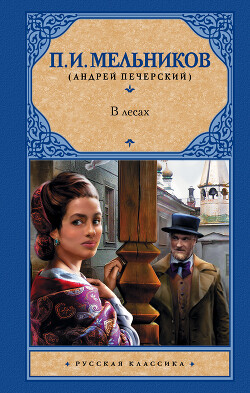– Запоем, слышь, пьет, – заметил Патап Максимыч.
– Не греши напрасно, братец, – возразила Манефа. – Мало ль чего люди не наплетут! Какое питье, когда жевать нечего, одеться не во что!
– Зачала Лазаря! – сказал, смеясь, Патап Максимыч. – Уж и Рассохиным нечего есть! Эко слово, спасенная душа, ты молвила!.. Да у них, я тебе скажу, денег куча; лопатами, чай, гребут. Обитель-то ихняя первыми богачами строена. У вас в Комарове они и хоронились, и постригались, и каких за то вкладов не надавали! Пошарь-ка у Досифеи в сундуках, много тысяч найдешь.
– Оно точно, братец, в прежнее время Рассохиных обитель была богатая, это правда и по всему христианству известно, – сказала Манефа. – Одних инокинь бывало у них по пятидесяти, а белиц по сотне и больше. До пожара часовня ихняя по всем скитам была первая; своих попов держали, на Иргиз на каждого попа сот по пяти платили. Да ведь такое пространное житие было еще при стариках Рассохиных. А теперь, сам ты знаешь, каковы молодые-то стали. Стару веру покинули, возлюбили новую, брады побрили, вышли в Господа и забыли отчие да дедние гробы. Как есть одна копейка, и той от них на родительскую обитель не бывало. Слава мира обуяла Рассохиных; про обитель Комаровскую, про строение своих родителей, и слышать не хотят, гнушаются… Ну, и захудала обитель: беднеть да беднеть зачала. К тому ж Господь дважды посетил ее – горели.
– Сундуки-то, чать, повытаскали? – спросил Патап Максимыч.
– Не успели, – молвила Манефа. – В чем спали, в том и выскочили. С той поры и началось Рассохиным житье горе-горькое. Больше половины обители врозь разбрелось. Остались одни старые старухи и до того дошли, сердечные, что лампадки на большой праздник нечем затеплить, масла нет. Намедни, в рождественский сочельник, Спасову звезду без сочива встречали. Вот до чего дошли!
Патап Максимыч подумал немного. Молча достал бумажник, вынул четвертную [4] и, отдавая Манефе, сказал:
– Получай. Дели поровну: на пять обителей по пяти целковых. Пускай их едят блины на масленице. Подлей чайку-то, Захаровна. А ты, Фленушка, что не пьешь? Пей, сударыня: не хмельное, не вредит.
– Много благодарна, Патап Максимыч, – с ужимочкой ответила Фленушка. – Я уж оченно довольна, пойду теперь за работу.
– За какую это работу? – спросил Патап Максимыч.
– Пелену шью, – ответила Фленушка. – Матушка приказала синелью да шерстями пелену вышить, к масленице надо кончить ее беспременно. Для того с собой и пяльцы захватила.
– Ступай-ка в самом деле, Фленушка, – сказала мать Манефа, – пошей. Времени-то немного остается: на сырной неделе оказия будет в Москву, надо беспременно отослать. На Рогожское хочу пелену-то послать, – продолжала она, обращаясь к Патапу Максимычу. – Да еще хочу к матушке Пульхерии отписать, благословит ли она епископу омофор вышивать да подушку, на чем ему в службе сидеть. Рылась я, братец, в книгах, искала на то правила, подобает ли в шитом шерстями да синелью омофоре епископу действовать, – не нашла. Хоть бы единое слово в правилах про то было сказано. Остаюсь в сумненьи, парчовые ли только омофоры следует делать, али можно и шитые. Вот и отписываю, – матушка Пульхерия знает об этом доподлинно.
Фленушка пошла из горницы, следом за ней Параша. Настя осталась. Как в воду опущенная, молча сидела она у окна, не слушая разговоров про сиротские дворы и бедные обители. Отцовские речи про жениха глубоко запали ей на сердце. Теперь знала она, что Патап Максимыч в самом деле задумал выдать ее за кого-то незнаемого. Каждое слово отцовское как ножом ее по сердцу резало. Только о том теперь и думает Настя, как бы избыть грозящую беду.
– А тебе, Настасья, видно, и в самом деле неможется? – спросил ее отец. – Подь-ка сюда.
Опустя голову и перебирая угол передника, подошла Настя к дивану, где сидел Патап Максимыч.
– Совсем девка зачала изводиться, – вступилась Манефа. – Как жили они в обители, как маков цвет цвела, а в родительском дому и румянец с лица сбежал. Чудное дело!
– Уж пытала я, пытала у ней, – заметила Аксинья Захаровна, – скажи, мол, Настя, что болит у тебя? «Ничего, говорит, не болит…» И ни единого слова не могла от нее добиться.
– Сядь-ка рядком, потолкуем ладком, – сказал Патап Максимыч, сажая Настю рядом с собой и обнимая рукою стан ее. – Что, девка, раскручинилась? Молви отцу. Может, что и присоветует.
Не отвечала Настя. То в жар, то в озноб кидало ее, на глазах слезы выступили.
– Чего молчишь? Изрони словечко. Скажи хоть на ушко, – продолжал Патап Максимыч, наклоняя к себе Настину голову.
– Тошнехонько мне, тятя, – вполголоса сказала Настя. – Пусти ты меня, в светлицу пойду.
– Эту тошноту мы вылечим, – говорил Патап Максимыч, ласково приглаживая у дочери волосы. – Не плачь, радость скажу. Не хотел говорить до поры до времени, да уж, так и быть, скажу теперь. Жениха жди, Настасья Патаповна. Прикатит к матери на именины… Слышишь?.. Славный такой, молодой да здоровенный, а богач какой!.. Из первых… Будешь в славе, в почете жить, во всяком удовольствии… Чего молчишь?.. Рада?..
У Насти в три ручья слезы хлынули.
– Не пойду за него… – молвила, рыдая и припав к отцовскому плечу. – Не губи меня, голубчик тятенька… не пойду…
– Отец велит, пойдешь, – нахмурясь, строгим голосом сказал Патап Максимыч, отстраняя Настю.
Она встала и, закрыв лицо передником, горько заплакала. Аксинья Захаровна бросила перемывать чашки и сказала, подойдя к дочери:
– Полно, Настенька, не плачь, не томи себя. Отец ведь любит тебя, добра тебе желает. Полно же, пригожая моя, перестань!
Настя отерла слезы передником и отняла его от лица. Изумились отец с матерью, взглянув на нее. Точно не Настя, другая какая-то девушка стала перед ними. Гордо подняв голову, величаво подошла она к отцу и ровным, твердым, сдержанным голосом, как бы отчеканивая каждое слово, сказала:
– Слушай, тятя! За того жениха, что сыскал ты, я не пойду… Режь меня, что хочешь делай… Есть у меня другой жених… Сама его выбрала, за другого не пойду… Слышишь?
– Что-о-о? – закричал Патап Максимыч, вскакивая с дивана. – Жених?.. Так ты так-то!.. Да я разражу тебя! Говори сейчас, негодница, какой у тебя жених завелся?.. Я ему задам…
Аксинья Захаровна так и обомлела на месте. Матушка Манефа, сидя, перебирала лестовку и творила молитву.
– Не достанешь, тятя, моего жениха, – с улыбкой молвила Настя.
– Кто таков?.. Сказывай, покаместь цела, – в неистовстве кричал Патап Максимыч, поднимая кулаки.
– Христос, царь небесный, – отступая назад, отвечала Настя. – Ему обещалась… Я в кельи, тять, иду, иночество приму.
Патап Максимыч на сестру накинулся:
– Твои дела, спасенница?.. Твои дела?.. Ты ей в голову такие мысли набила?
– Никогда я Настасье про иночество слова не говорила, – спокойно и холодно отвечала Манефа, – беседы у меня с ней о том никогда не бывало. И нет ей моего совета, нет благословения идти в скиты. Молода еще, голубушка, – не снесешь… Да у нас таких молодых и не постригают.
– А коль я к воротам твоим, тетенька, босая приду да, стоя у вереи в одной рубахе, громко, именем Христовым, зачну молить, чтобы допустили меня к жениху моему?.. Прогонишь?.. Запрешь ворота?.. А?..
– Нет, не могу ворот запереть, – отвечала игуменья. – Нельзя… Господь сказал: «Грядущего ко мне не изжену»… Должна буду принять.
– Так слушай же ты, спасенная твоя душа, – закричал Патап Максимыч сестре. – Твоя обитель мной только и дышит… Так али нет?
– Так точно, – отвечала Манефа.
– Знаешь ты, какие строгие наказы из Питера насланы?.. Все скиты вконец хотят порешить, праху чтоб ихнего не осталось, всех стариц да белиц за караулом по своим местам разослать… Слыхала про это?
– Как не слыхать! – спокойно сказала Манефа.
– А кто от вас эту беду до поры до времени, покуда сила да мочь есть, отводит? – продолжал Патап Максимыч. – Кто за вас у начальства хлопочет?.. Знаешь?..