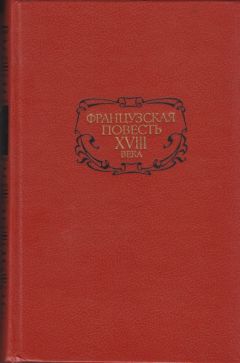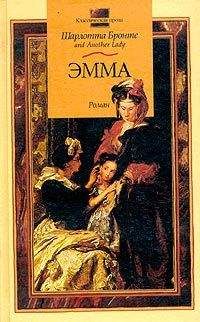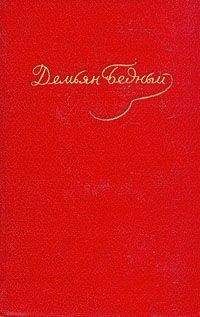Вот какие мысли занимали меня в Шамуни, пока я спускался по перевалу Монтанвер, возвращаясь с ледяного моря. Закончив утомительный двухчасовой переход, я вновь очутился у источника, возле которого останавливался утром. И мне снова захотелось побыть здесь немного: я недолюбливаю бурные реки, но к источникам питаю слабость. К тому же неожиданно для самого себя я совершенно выбился из сил. Я пригласил моего проводника, достойного Франсуа Паккара, присесть рядом со мной, и у нас завязалась оживленная беседа о жителях Шамуни, об их характере, привычках, образе жизни. Паккар развлекал меня рассказом о простоте здешних нравов, а об этом всегда приятно поговорить, хотя бы поминая их добрым словом. Вдруг ко мне подбежала хорошенькая девочка и предложила купить корзинку вишен. Я охотно согласился. Как только девочка удалилась, Паккар сказал мне, смеясь:
— Десять лет тому назад на этом самом месте одна наша крестьянка вот так же предложила путешественнику фрукты, и как же дорого ей это обошлось!
Я стал уговаривать Паккара поведать мне эту историю.
— О, это длинная история, — отвечал он мне, — она известна мне во всех подробностях от саланшского кюре, который сам сыграл в ней не последнюю роль.
Я попросил Паккара пересказать мне все, что он узнал от салашского кюре, и когда мы устроились под елями и вместе принялись за вишни, Паккар приступил к своему рассказу:
— Да будет вам известно, сударь мой, что десять лет тому назад долина Шамуни вовсе не была так знаменита, как сейчас. В то время путешественники с золотыми луидорами не приезжали любоваться нашими ледниками и собирать камни в наших горах. Мы были бедны, не ведали зла, и наши женщины и девушки, знавшие лишь домашние заботы, были еще простодушнее нас. Я заранее говорю вам об этом, чтобы хоть как-то оправдать проступок Клодины. Бедное дитя, ее ничего не стоило обмануть!
Клодина была дочерью Симона, хлебопашца из Приере. Этот Симон — я хорошо его знал — умер всего два года назад, он был старшиной нашего прихода. Все почитали его за честность. От природы человек суровый, он ничего не прощал себе и мало что прощал другим: его уважали, но боялись. Если кто из наших жителей поссорился с женой или немного перебрал в воскресенье, он потом целую неделю боялся показаться Симону на глаза. Ребятишки затихали при его появлении, быстро сдергивали свои шапчонки и, только когда шаги Симона затихали в отдалении, вновь принимались за свои игры.
Симон рано овдовел, жена его Мадлена умерла, оставив ему двух дочерей. Старшая, Нанетта, выросла миловидной девушкой, ну а младшая, Клодина, сияла просто ангельской красотой. Представьте себе прелестное кругленькое личико, вдумчивые карие глаза, широкие брови, маленький ротик, похожий на вишенку, — все парни в нашей деревне сходили по ней с ума, и когда она приходила по воскресеньям на танцы в пышной синей юбке с корсажем, стянутым на тонкой талии, и в соломенной шляпке, украшенной ленточками, у нее отбоя не было от кавалеров.
Клодине было всего четырнадцать, ее сестре Нанетте — девятнадцать, она все еще жила в родительском доме и вела хозяйство. Клодина, как самая младшая, пасла стадо на Монтанвере, она уходила туда на весь день, захватив с собой обед и пряжу, работала, пела или болтала с другими пастушками, к вечеру возвращалась домой, после ужина Симон читал дочерям Библию, благословлял их, и все укладывались спать.
Но вот к нам зачастили иностранцы. Молодой англичанин по имени Бельтон, оказавшись в Швейцарии проездом на пути в Италию, решил побывать у нас в Шамуни и посмотреть на ледяное море; он остановился переночевать у мадам Кутеран[30] и на следующий день в четыре утра отправился в путь в сопровождении моего брата Мишеля, который теперь стал старшиной проводников. Он спустился вниз около полудня и присел отдохнуть, как и мы, у этого самого источника, и вот тут Клодина, которая пасла неподалеку своих овечек, заметив, сколь разгорячила его ходьба по горным дорогам, подошла к нему и предложила фруктов и молока из своего обеденного припаса. Англичанин, поблагодарив, так и впился в нее глазами, засыпал вопросами и хотел было заплатить пять или шесть гиней, от чего Клодина отказалась, зато бедняжка не отказалась показать Бельтону своих овечек, которые паслись среди высоких елей. Бельтон ушел с Клодиной один, попросив проводника подождать. Я не могу пересказать вам, о чем беседовали они с Клодиной: этого никто не слышал. Знаю только, что Бельтон уехал в тот же вечер, а Клодина, вернувшись в отцовский дом, была задумчива, рассеянна, и на пальце у нее блестело кольцо с великолепным бриллиантом. Сестра заметила кольцо и спросила, откуда оно. Клодина отвечала, что нашла. Симон с недовольным видом отобрал у Клодины кольцо и сам отнес к мадам Кутеран, чтобы при случае вернуть владельцу. Но ни один путешественник не заявил о пропаже. Бельтон был уже далеко, Клодина же, которой вернули кольцо обратно, день ото дня становилась все печальней.
Прошло пять или шесть месяцев. Клодина каждый вечер возвращалась домой с заплаканными глазами и наконец решилась открыться своей сестре Нанетте. Она призналась ей, что встретила на Монтанвере молодого англичанина и в тот же день он сказал, что любит ее, жить без нее не может, хочет жениться на ней и поселиться вместе с ней в Шамуни.
— Он так горячо клялся мне в любви, что я поверила, — продолжала Клодина, — ему надо было съездить по делам в Женеву, но он обещал вернуться не позднее чем через две недели, купить здесь дом и сразу же сыграть свадьбу. Он усадил меня рядом, поцеловал, называя своей женой, и подарил мне взамен обручального бриллиантовое кольцо. Больше я ничего не могу рассказать вам, сестра моя, но я в страшной тревоге, скверно себя чувствую, плачу дни напролет и все гляжу на женевскую дорогу — но Бельтон не возвращается.
Нанетта, которая сама только что вышла замуж, засыпала рыдающую Клодину вопросами и в конце концов поняла, что англичанин подло обманул несчастную простодушную девушку и что Клодина беременна.
Как быть? Как сказать о несчастье грозному Симону? А ведь скрыть от него невозможно. Нанетта не стала усугублять отчаяние сестры бессмысленными попреками, наоборот, она попыталась утешить ее, вселить в нее надежду на прощение, хотя прекрасно понимала, что надежде этой никогда не сбыться. После долгих раздумий Нанетта отправилась с согласия сестры к нашему кюре, посвятила его в тайну и умоляла самому поговорить с Симоном, объявить ему о несчастье, постараться смягчить его гнев, объяснив, что дочь его всего лишь жертва негодяя англичанина, и главное, принять все меры к тому, чтобы спасти, пусть не честь, хотя бы жизнь несчастной девушки. Наш кюре очень горевал, выслушав Нанетту, но все же согласился выполнить просьбу девушки и, выбрав время, когда Клодина находилась на Монтанвере, отправился к Симону.
Симон, как обычно, был занят чтением Ветхого Завета. Кюре, сев рядом с ним, заговорил о прекрасных историях из этой божественной книги и с особым восторгом отозвался об истории Иосифа, простившего своих братьев, истории великого царя Давида, простившего своего сына Аввесалома, и других подобных, неизвестных мне, но известных кюре. Симон во всем с ним соглашался. Кюре заметил, что бог для того явил нам столькие примеры милосердия, чтобы и мы были снисходительны и милосердны к братьям нашим, как Иосиф, а к детям нашим, как Давид, и лишь тогда сами сможем рассчитывать на снисхождение к нам общего отца нашего. Кюре употребил все свое красноречие, которое мне передать не под силу, чтобы постепенно подготовить старика к страшному удару. Он долго оттягивал его, но в конце концов вынужден был нанести, и Симон вскочил на ноги, как ужаленный, побледнел, задрожал от гнева и, схватив ружье, с которым ходил на охоту, бросился к двери, собираясь застрелить свою дочь. Кюре остановил его, отобрал ружье, он то настойчиво взывал к его христианскому милосердию, то говорил слова утешения и прижимал к своей груди, и в конце концов старый Симон, который до сих пор не проронил ни слезинки и стоял, дрожа всем телом, сжав белые как мел губы, вдруг рухнул в свое кресло, схватился руками за голову и разрыдался.
Кюре молча дал ему выплакаться, а потом заговорил о том, какие меры, по его мнению, следует предпринять, чтобы спасти честь Клодины. Но Симон прервал его:
— Господин кюре, нельзя спасти то, что потеряно безвозвратно. Что бы мы с вами ни предприняли, нам все равно придется лгать, и мы сами станем сообщниками преступления. Этой несчастной нужно бежать отсюда без промедления, здесь она станет притчей во языцех и мукой для отца. Пусть уходит, господин кюре, пусть уходит сегодня же и пусть живет, как знает, если может жить в бесчестье, но я хочу умереть вдали от нее, и потому пусть она больше никогда не оскорбляет своим присутствием мои седины!