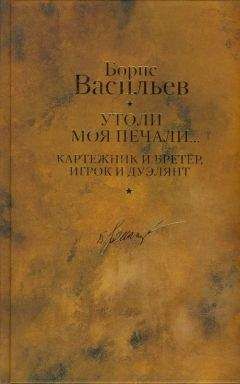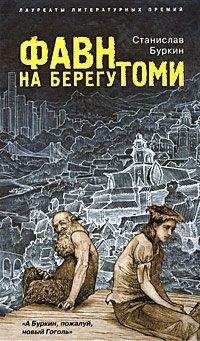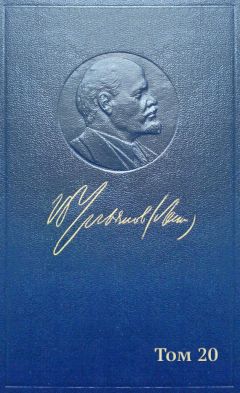Монашек избегал больших сел, где живут становой или урядник, и князю приходилось ночевать то в овраге, где поутру над головой кричат острокрылые стрижи, то на гумнах хуторов или под телегой в поле.
И дивился сам себе Алексей Петрович, почему не противно ему ни вшей, ни грязи, ни конского навоза, когда, усталый, валился он куда ни попало и наутро вставал веселый и свежий.
Повсюду путников принимали попросту, не спрашивали, кто они, а больше слушали рассказы монашка и понимали их по-своему: кто засмеется, не поверив; кто подивится, «как свет велик»; кто только головой покачает; а баба какая-нибудь вздохнет, сама не зная отчего. Князя называли «баринок» и жалели, и Алексей Петрович удивлялся также, как много этой жалости на свете у простых людей.
– Много так-то нашего брата по дорогам шляется, – однажды сказал монашек. – Живет человек, все у него есть, а скучно. Я сам через это прошел. Водку пил – ужасти. Лежу, бывало, на полу, около меня четверть и стакан, не ем ничего, только пью, и весь черный. До того допился, видеть стал – лезет из-под кровати лошадь с рогами, морда птичья, а сама голая. Долго я маялся. Многое было. А другой до того дойдет – бац себя из пистолета, здорово живешь! Сколько их на себя руки накладывают. А то с тоски есть которые и людей режут, ей-богу. Представится ему, что ужо, как и сегодня будет: поест, поспит и помрет потом. Остается блудить без ума, чтобы проняло, как иголкой, блудом. Отчего же в таком положении человека ножом не пырнуть?.. Очень просто, коли захотелось до» смерти. Ну, а иные, которым себя-то уж больно жалко, уходят. Немало и я увел. Со мной прошлое лето, вроде тебя, товарищ увязался. Походил, походил, а потом взял да на себя и донес в убийстве.
– Верно все это, верно, – ответил Алексей Петрович (разговаривали они под прошлогодним ометом, на пригорке, глядя вниз на село, обозначившее темную линию крыш, скворечен и труб на закате). – Я вот, кажется, понимаю теперь, зачем хожу. Может быть, чище стану, и тогда… – Он вдруг замолчал, отвернулся, и глаза его наполнились слезами. Чтобы скрыть волнение, он окончил, тихо смеясь: – А ведь ты весь век бродишь, как лодырь, настоящий лодырь.
– Я считаю за пустяки подобные разговоры, – ответил монашек. – Всякому свое: бывают и такие, что, сидя у себя на стуле, большое веселье чувствуют, а есть и такие, что по городу на извозчике с гармоньей ездят и тоже много веселятся. Не это плохо, а то, что у человека муть в голове. А я, может быть, тоже от своей совести бегаю?.. Ты почем знаешь?
На десятые сутки подошли они опять к Волге. После разговора под ометом не пел больше монашек песен, а все думал, глядя под ноги. Думал и Алексей Петрович, ясно и радостно. Казалось ему, что все прошлое было наваждением, как душный бред, а вот сейчас он идет во ржи, под солнцем, – и любит, любит так, как никогда не любил…
В приречном селе, в тридцати верстах от Милого, монашка задержал урядник, а у князя посмотрел паспорт, покачал головой и сказал:
– Ну ладно, ступай. Только у нас не разрешается без занятий гулять… Да смотри, сукин сын, если еще попадешься, – в остроге сгною.
Алексей Петрович взял паспорт и ушел за село – в дубовую рощу, на речной берег. Когда настала ночь, на той стороне по горам, как звезды, засветились огни губернского города.
Тишина в роще, шелест и шорох реки и эти мигающие огни были знакомые и кроткие. Лежа в темноте на траве, Алексей Петрович плакал, думая: «Милая Катя, родная моя жена».
Вечером следующего дня у гостиницы Краснова, где помещался городской театр, был большой разъезд. Дождик смочил асфальтовый тротуар, освещенный матовым фонарем. Из подъезда, как в трубу, валил народ, разделяясь на тротуаре: кто спешил домой, кто в ресторан, кто оставался еще поглядеть на дам и на барышень.
Помещики из медвежьих углов распихивали публику крутыми локтями, говоря: «Виноват-с»; помещики-земцы вежливо сторонились, толкуя об идее пьесы; когда вышел предводитель, образец английского воспитания, соединенного с дородностью, швейцар, покинув двери, крикнул отчаянно: «Коляску!»
Чиновники, стоя по бокам подъезда, с любопытством разглядывали знать; гимназисты в картузах прусского образца сбились у самых дверей, чтобы видеть лучше барышень и знаменитой актрисе, которая давала спектакль, крикнуть «бис».
Дамы и барышни, чиновницы и купчихи, накинув шарфы и шали, ступали, приподнимая юбки, на сырой тротуар.
Наконец в дверях появились Волков и Катя.
– Краснопольская, Краснопольская, – зашептали гимназисты.
Мущинкин, чиновник малого роста с четырехвершковыми усами, шарахнулся даже как-то из-под Катиных ног, задрав голову.
Действительно, Катенька была необычайно красива в белом пальто и маленькой шапочке из фиалок. Матовое, как слоновая кость, лицо ее было строго, рот надменно сложен, глаза пылали, – лихорадочные и большие.
Катеньку взволновала пьеса, где каждое слово было написано о ее прошлом. Мужчины из лож и партера, как нарочно, глядели на Краснопольскую нагло и бессовестно, ее мучили эти взгляды.
Швейцар, сняв картуз, спросил Волкова:
– Ваше превосходительство, как закричать?
– Кричи, братец, Петра, да погромче, – ответил Волков.
И швейцар гаркнул на всю площадь:
– Пет-а-а-р-р, тройку!
Ступая в коляску вслед за отцом, Катенька задела платьем за медную скобку и обернулась. «Катя!» – услышала она голос неподалеку, вздрогнула, вгляделась, потом сейчас же поднесла ладонь к глазам, опустилась в глубокое сиденье, и лошади тронули.
У фонаря стоял князь – оборванный, без шапки и в опорках. Вытянув шею, глядел он на уезжавшую коляску и повторял одно слово: «Катя…»
– Что стоишь? Пошел, пошел, – сказал ему городовой.
Князь отошел от фонаря и сейчас же увидел Цурюпу, который с неистовым любопытством глядел на него в лорнет.
– Князь, что за маскарад? – воскликнул Цурюпа, схватывая Алексея Петровича под руку, затем крикнул свой кеб и, сколь князь ни вырывался, бормоча: «Так нужно, оставьте, я не хочу», силой посадил его в лакированный экипаж и велел гнать под гору, чтобы с последним паромом попасть за реку.
Алексей Петрович притих, согнувшись в экипаже, и на вопросы отвечал коротко, сдерживаясь только, чтобы не стучали зубы от неудержимой дрожи. Князь понял: Цурюпа и все, конечно, естественно и просто сделают то, «а что сам он никогда бы не отважился.
– Преглупая вещица, скажу тебе, – покачиваясь в коляске, говорил Волков дочери. – Не понимаю, о чем кричат, я даже вздремнул. А тебе, душа моя, не надо бы волноваться. Ты не устала?
– Нет, нет, папочка, – сжимая незаметно руки, ответила Катя. – Только мне не хочется ночевать в городе, поедемте домой.
– Ты прямо, Катя, без ума! Нас тетка Ольга с ужином ждет. Как можно обидеть старуху? Ну-ну, не волнуйся, перекусим, извинимся делами какими-нибудь и уедем. Ах, Катенька, не понимаю я теперешней молодежи. Суета у вас в голове, вертуны. Раньше проще жили.
Недаром упомянул о «вертунах» Александр Вадимыч, или «вертиже», как выражалась тетка Ольга. Туго пришелся Волкову этот год. Катенька прохворала всю зиму, а едва поправилась, как проговорился ей нечаянно Кондратий, что доктор утонул тогда в полынье, и у Катеньки в голове начался «вертиж». Александр Вадимыч даже уйти хотел одно время к черту, до того стало ему это несносно.
По ночам Катенька, полураздетая, приходила к отцу, дрожала, вглядывалась в темные углы, садилась на диван, подбирала ноги и не двигалась, уставясь на свечу. Потом по лицу ее проходили судороги, и она начинала биться, стиснув зубы, и рассказывала отцу в сотый раз все, что случилось в ту ночь. Чтобы как-нибудь сдвинуть ее с этих рассказов, Александр Вадимыч придумал и сказал дочери:
– Григорий-то Иванович не сам, по-моему, погиб, и ты тут ни при чем: так ему было назначено, обречено.
– Что ты говоришь? – словно вся затрепетав, спросила Катенька. – Обреченный? Значит, он – жертва?
И вдруг она успокоилась. И однажды заговорила о князе, просто, с одною горькой усмешкой на губах. Александр Вадимыч выругался. Она разговора не продолжала, но, должно быть, много думала, догадывалась о чем-то. Настала весна. Александр Вадимыч сказал однажды:
– Катюша, а съездим, друг мой, к тетке Ольге, Катенька только пожала плечиком:
– Поедемте…
По-другому отозвалось несчастье это на Саше. Когда Григорий Иванович уехал с княгиней, Саша поняла, что он не вернется. А если и приедет, то чужой. Поняла она также, что ее жизнь с доктором была неверной и еще тогда, на огороде, надо было не поддаться и уйти. Лежа за перегородкой, она думала, как наденет старушечий сарафан и побредет по дорогам, прося Христовым именем. Саша чуяла, что не в страсти будет она жить, как теперь, а в постоянном этом умилении перед небом, перед землей и перед людьми.
На рассвете в дверь постучались. Саша вся задрожала, как осиновый лист, оправилась и пошла отпирать. В избу вошел отец Василий, взглянул строго и сказал: