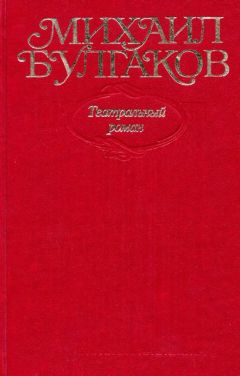Прошло некоторое время, и пелена воды стала редеть, яростный ураган ослабевал и не с такою силою ломал ветви в саду. Удары грома, блистание становились реже, над Ершалаимом плыло уже не фиолетовое с белой опушкой покрывало, а обыкновенная серая туча. Грозу сносило к Мертвому морю.
Теперь уже можно было расслышать отдельно и шум низвергающейся по желобам и прямо по ступеням воды с лестницы, по которой утром прокуратор спускался на площадь. И наконец зазвучал и заглушенный доселе фонтан. Светлело, в серой пелене неба появились синие окна.
Тут вдали, прорываясь сквозь стук уже слабенького дождика, донеслось до слуха прокуратора стрекотание сотен копыт. Прокуратор шевельнулся, оживился. Это ала, возвращаясь с Голгофы, проходила там внизу за стеною сада по направлению к крепости Антония.
И наконец он услышал и долгожданные шаги, шлепание ног на лестнице, ведущей к площадке сада перед балконом. Прокуратор вытянул шею, глаза его выражали радость.
Показалась сперва голова в капюшоне, а затем и весь человек, совершенно мокрый в прилипающем к телу плаще. Это был тот самый, что сидел во время казни на трехногом табурете.
Пройдя, не разбирая луж, по площадке сада, человек в капюшоне вступил на мозаичный пол и, подняв руку, сказал приятным высоким голосом:
— Прокуратору желаю здравствовать и радоваться.
— Боги! — воскликнул Пилат по-гречески, — да ведь на вас нет сухой нитки! Каков ураган? Прошу вас немедленно ко мне. Переоденьтесь!
Пришедший откинул капюшон, обнаружив мокрую с прилипшими ко лбу волосами голову, и, вежливо поклонившись, стал отказываться переодеться, уверяя, что небольшой дождик не может ему ничем повредить.
Но Пилат и слушать не захотел. Хлопнув в ладоши, он вызвал прячущихся слуг и велел им позаботиться о пришедшем, а также накрыть стол.
Немного времени понадобилось пришельцу, чтобы в помещении прокуратора привести себя в порядок, высушить волосы, переодеться, и вскорости он вышел в колоннаду в сухих сандалиях, в сухом военном плаще, с приглаженными волосами.
В это время солнце вернулось в Ершалаим и, прежде чем утонуть в Средиземном море, посылало прощальные лучи, золотившие ступени балкона. Фонтан ожил и пел замысловато, голуби выбрались на песок, гулькали, расхаживали, что-то клюя. Красная лужа была затерта, черепки убраны, стол был накрыт.
— Я слушаю приказания прокуратора, — сказал пришедший, подходя к столу.
— Но ничего не услышите, пока не сядете и не выпьете вина, — любезно ответил Пилат, указывая на другое кресло.
Пришедший сел, слуга налил в чашу густое красное вино. Пока пришедший пил и ел, Пилат, смакуя вино, поглядывал прищуренными глазами на своего гостя.
Гость был человеком средних лет, с очень приятным округлым лицом, гладко выбритым, с мясистым носом. Основное, что определяло это лицо, это, пожалуй, выражение добродушия, нарушаемое, в известной степени, глазами. Маленькие глаза пришельца были прикрыты немного странными, как будто припухшими веками. Пришедший любил держать свои веки опущенными, и в узких щелочках светилось лукавство. Пришелец имел манеру во время разговора внезапно приоткрывать веки пошире и взглядывать на собеседника в упор, как бы с целью быстро разглядеть какой-то малозаметный прыщик на лице.
После этого веки опять опускались, оставались щелочки, в которых и светились лукавство, ум, добродушие.
Пришедший не отказался и от второй чаши вина, с видимым наслаждением съел кусок мяса, отведал вареных овощей.
Похвалил вино:
— Превосходная лоза. Фалерно?
— Цекуба, тридцатилетнее, — любезно отозвался хозяин.
После этого гость объявил, что сыт. Пилат не стал настаивать. Африканец наполнил чаши, прокуратор поднялся, и то же сделал его гость.
Оба они отлили немного вина из своих чаш, и прокуратор сказал громко:
— За нас, за тебя, Кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей!
После этого допили вино, и африканцы вмиг убрали чуть тронутые яства со стола. Жестом прокуратор показал, что слуги более не нужны, и колоннада опустела.
Хозяин и гость остались одни.
— Итак, — заговорил Пилат негромко, — что можете вы сказать мне о настроении в этом городе?
Он невольно обратил взор в ту сторону, где за террасой сада видна была часть плоских крыш громадного города, заливавшегося последними лучами солнца.
Гость, ставший после еды еще благодушнее, чем до нее, ответил ласково:
— Я полагаю, прокуратор, что настроение в этом городе теперь хорошее.
— Так что можно ручаться, что никакие беспорядки не угрожают более?
— Ручаться можно, — проговорил гость, с удовольствием поглядывая на голубей, — лишь за одно в мире — мощь великого кесаря…
— Да пошлют ему боги долгую жизнь, — сейчас же продолжил Пилат, — и всеобщий мир. Да, а как вы полагаете, можно ли увести теперь войска?
— Я полагаю, что когорта Громоносного легиона может уйти, — ответил гость и прибавил: — Хорошо бы, если бы еще завтра она продефилировала по городу.
— Очень хорошая мысль, — одобрил прокуратор, — послезавтра я ее отпущу и сам уеду, и, клянусь пиром двенадцати богов, дарами клянусь, я отдал бы многое, чтобы сделать это сегодня.
— Прокуратор не любит Ершалаима? — добродушно спросил гость.
— О, помилуйте, — светски улыбаясь, воскликнул прокуратор, — нет более беспокойного места на всей земле! Маги, чародеи, волшебники, фанатики, богомольцы… И каждую минуту только и ждешь, что придется быть свидетелем кровопролития. Тасовать войска все время, читать доносы и ябеды, из которых половина на тебя самого. Согласитесь, что это скучно!
— Праздники, — снисходительно отозвался гость.
— От всей души желаю, чтобы они скорее кончились, — энергично добавил Пилат, — и я получил бы возможность уехать в Кесарию. А оттуда мне нужно ехать с докладом к наместнику. Да, кстати, этот проклятый Вар-Равван вас не тревожит?
Тут гость и послал этот первый взгляд в щеку прокуратору. Но тот глядел скучающими глазами вдаль, брезгливо созерцая край города, лежащий у его ног и угасающий перед вечером. И взгляд гостя угас, и веки опустились.
— Я думаю, что Вар стал теперь безопасен, как ягненок, — заговорил гость, и морщинки улыбки появились на круглом лице, — ему неудобно бунтовать теперь.
— Слишком знаменит? — спросил Пилат, изображая улыбку.
— Прокуратор как всегда тонко понимает вопрос, — ответил гость. — он стал притчей во языцех.
— Но во всяком случае… — озабоченно заметил прокуратор, и тонкий длинный палец с черным камнем в перстне поднялся вверх.
— О, прокуратор может быть уверен, что в Иудее Вар не сделает шагу без того, чтобы за ним не шли по пятам.
— Теперь я спокоен, — ответил прокуратор, — как, впрочем, и всегда спокоен, когда вы здесь.
— Прокуратор слишком добр.
— А теперь прошу сделать мне доклад о казни, — сказал прокуратор.
— Что именно интересует прокуратора?
— Не было ли попыток выражать возмущение ею, попыток прорваться к столбам?
— Никаких, — ответил гость.
— Очень хорошо, очень хорошо. Вы сами установили, что смерть пришла?
— Конечно. Прокуратор может быть уверен в этом.
— Скажите. Напиток им давали перед повешением на столбы?
— Да. Но он, — тут гость метнул взгляд, — отказался его выпить.
— Кто именно? — спросил Пилат, дернув щекой.
— Простите, игемон! — воскликнул гость, — я не назвал? — Га-Ноцри.
— Безумец! — горько и жалостливо сказал Пилат, гримасничая. Под левым глазом у него задергалась жилка, — умирать от ожогов солнца, с пылающей головой… Зачем же отказываться от того, что предлагается по Закону? В каких выражениях он отказался?
— Он сказал, — закрыв глаза, ответил гость, — что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь.
— Кого? — глухо спросил Пилат.
— Этого он не сказал, игемон.
— Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат?
— Нет, игемон, он не был многословен на этот раз. Единственно, что он сказал, — это что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость.
— К чему это было сказано? — услышал гость треснувший внезапно голос.
— Этого нельзя было понять. Он вообще вел себя странно, как, впрочем, и всегда.
— В чем странность?
— Он улыбался растерянной улыбкой и все пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих.
— Больше ничего? — спросил хриплый голос.
— Больше ничего.
Прокуратор стукнул чашей, наливая гостю и себе вина.
После того как чаши были осушены, он заговорил.
— Дело заключается в следующем. Хотя мы и не можем обнаружить каких-либо его поклонников или последователей, тем не менее ручаться, что их совсем нет, никто не может.