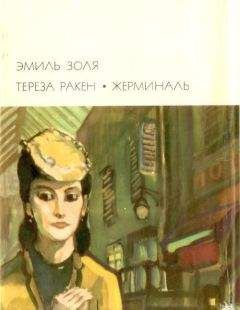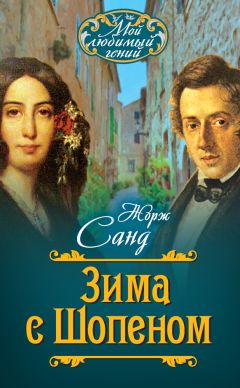— Какая вы добрая! — восклицала она иногда. — Вижу, мои слезы растрогали вас… В вашем взгляде светится жалость… Теперь я спасена…
И она осыпала несчастную старуху ласками, блаженно улыбалась, целовала ей руки, любовно и самозабвенно ухаживала за ней. Со временем она сама уверовала в эту комедию, она вообразила, будто вымолила у г-жи Ракен прощение, и теперь только о том и говорила, как она счастлива, что прощена.
Для параличной это было уже свыше сил. Она чуть не умерла. Поцелуи племянницы вызывали в ней то же острое чувство отвращения и бешенства, какое овладевало ею утром и вечером, когда Лоран брал ее на руки, чтобы поднять или уложить в постель. Ей приходилось терпеть омерзительные ласки преступницы, которая предала и убила ее сына; несчастная не могла даже утереть себе щеки после поцелуев этой твари. Еще долгое время она чувствовала на себе эти поцелуи, и они жгли ее. Так она стала куклой в руках убийц Камилла, куклой, которую они одевали, вертели во все стороны, которой пользовались сообразно своим потребностям и прихотям. Она оставалась в их руках безжизненной, словно вместо сердца у нее были опилки, а между тем нутро ее было живо, оно возмущалось и страдало от малейшего соприкосновения с Терезой и Лораном. Особенно угнетало ее жестокое издевательство молодой женщины, которая делала вид, будто прочла в ее глазах прощение, в то время как в действительности старуха хотела бы, чтобы ее взгляд сразил преступницу. Часто она делала сверхчеловеческое усилие, чтобы издать хоть слабый крик протеста; всю свою ненависть она сосредоточила в глазах. Но Терезе доставляло облегчение повторять раз по двадцать в день, что тетя ее простила, и она изощрялась в заботах о старухе, не желая вникнуть в ее переживания. Калеке поневоле приходилось принимать порывы нежности и благодарности, которые с негодованием отвергало ее сердце. Теперь она жила во власти бессильной, горькой злобы, в постоянном присутствии смиренной племянницы, которая окружала старуху нежной заботой, чтобы вознаградить ее за то, что она называла «небесной добротой».
Когда Тереза становилась перед г-жой Ракен на колени в присутствии Лорана, он грубо одергивал ее.
— Нечего балаганить, — говорил он. — Я вот не хнычу, не валяюсь в ногах… Ты делаешь это мне назло.
Раскаяние Терезы как-то странно волновало его. Ему сделалось еще тяжелее с тех пор, как соучастница его преступления стала бродить возле него с распухшими от слез глазами, с мольбой на губах. Вид этого ходячего раскаяния усиливал его страхи, еще больше угнетал его. Она была каким-то вечным укором, снующим по дому, Кроме того, он опасался, как бы муки совести не толкнули Терезу на разоблачения. Он предпочел бы, чтобы она оставалась неуязвимой и огрызалась, рьяно защищаясь от его обвинений. Но она изменила тактику; теперь она охотно признавала свою долю участия в преступлении, сама себя винила, становилась податливой и робкой, молила о милосердии и отдавалась пылким порывам самоунижения. Такое поведение раздражало Лорана. По вечерам их ссоры становились все более ожесточенными и зловещими.
— Послушай, — говорила Тереза мужу, — мы с тобой великие грешники, нам нужно покаяться, если мы хотим хоть немного успокоиться… Видишь, с тех пор как я плачу, я стала спокойнее. Плачь и ты. Скажем вместе, что наказание наше вполне справедливо, ибо мы совершили страшное преступление.
— Вот еще! — грубо возражал Лоран. — Болтай что хочешь. Я знаю, что ты чертовски хитра и лицемерна. Плачь, если это тебя развлекает, но, прошу, не морочь мне голову нытьем…
— Какой ты злой! Ты не хочешь раскаяться. А между тем ты трус, ты убил Камилла предательски.
— Скажешь, я один виноват?
— Нет, этого я не говорю. Я тоже виновата, я виноватее тебя. Мне следовало спасти мужа из твоих рук. Да, я сознаю весь ужас своего проступка, но я стараюсь заслужить прощение и заслужу его, а твоя жизнь, Лоран, так навсегда и останется искалеченной… У тебя даже не хватает благородства избавить мою бедную тетю от диких сцен, которые ты закатываешь; ты ни разу не произнес ни слова раскаяния.
И она принималась целовать г-жу Ракен, а та сразу же закрывала глаза. Тереза вертелась вокруг нее, поправляла подушку, на которой покоилась ее голова, оказывала ей тысячи знаков внимания. Лоран выходил из себя.
— Да оставь ты ее! — кричал он. — Неужели ты не видишь, что твои заботы, да и самый твой вид ей противны. Если бы она могла, она дала бы тебе пощечину.
Тягучие, жалостные слова жены, ее смиренный вид мало-помалу доводили его до вспышек дикого гнева. Он отлично понимал ее тактику: она хотела обособиться, оградиться от него стеною раскаяния и тем самым избавить себя от объятий утопленника. Иногда Лоран думал, что она, пожалуй, избрала лучший путь, что слезы излечат ее от страхов, и он содрогался при мысли, что будет страдать один, один будет трепетать от ужаса. Ему тоже хотелось бы раскаяться или, по крайней мере, для пробы разыграть комедию угрызений совести; но рыдания не давались ему, он не находил нужных слов и опять начинал неистовствовать, опять терзал Терезу, чтобы вывести ее из равновесия и вовлечь в свой исступленный бред. Тереза старалась хладнокровно выдерживать эти припадки, она отвечала на его бешеные крики униженной покорностью, становилась все более смиренной и кроткой, по мере того как он становился все грубее. Лоран понемногу приходил в исступление. Чтобы довести его до последней черты, Тереза под конец начинала восхвалять Камилла, превозносить его добродетели.
— Он был добрый, — говорила она. — Сколько нужно жестокости, чтобы обидеть такого превосходного человека, человека, у которого никогда не бывало дурной мысли.
— Что и говорить, — ухмылялся Лоран, — он был добрый; ты хочешь сказать — дурак, не правда ли?.. Забыла разве? Ведь ты уверяла, что любое его слово выводит тебя из терпения, что стоит ему только открыть рот, и уже готова какая-нибудь глупость.
— Не насмехайся… Недостает только того, чтобы ты глумился над человеком, которого убил. Ты не знаешь женского сердца, Лоран. Камилл меня любил, и я его любила.
— Любила! Скажите на милость! Славно придумано! Вероятно, потому ты и взяла меня в любовники, что уж больно любила мужа… Помню, как однажды, лежа у меня на груди, ты говорила, что тебя тошнит от одного прикосновения к его телу, что, когда ты касаешься его, тебе кажется, будто руки твои погружаются в какую-то глину… Уж я-то знаю, за что ты меня любила. Тебе требовалось нечто покрепче, чем объятия этого мозгляка.
— Я любила его как брата. Он был сыном моей благодетельницы, он, подобно всем слабым натурам, был деликатен, он был благороден и самоотвержен, у него было преданное, любящее сердце… А мы убили его! О, боже мой, боже!
Она плакала, стонала. А г-жа Ракен устремляла на нее колючий взгляд, — ее до глубины души возмущало, что похвалу Камиллу произносят такие уста. Лоран был бессилен против этого потока слез, он нетерпеливо шагал по комнате, придумывал какую-нибудь крайнюю меру, чтобы приглушить терзания Терезы. Слушая, как она расхваливает его жертву, он бледнел от бешенства; иногда он поддавался душераздирающим стенаниям жены, сам начинал верить в добродетели Камилла, и тогда ему становилось еще страшнее. Но ничто так не выводило его из себя и не вызывало у него таких взрывов ярости, как сравнение, которое Тереза в конце концов проводила между своим первым и вторым мужем, причем все преимущества неизменно оказывались у первого.
— Да, так оно и есть, — кричала она, — он был лучше тебя; я предпочла бы, чтобы он еще жил, а ты лежал бы на его месте в могиле.
Сначала Лоран пожимал плечами.
— Что ни говори, — продолжала она, все более воодушевляясь, — при жизни я его, может быть, и не любила, зато теперь помню и люблю… Его люблю, а тебя ненавижу, понимаешь? Ты — убийца…
— Замолчи! — ревел Лоран.
— А он — он жертва, он честный человек, которого убил негодяй. Но не думай — я тебя не боюсь… Ты сам знаешь, что ты подлец, скотина, без сердца, без души. Как же я могу любить тебя, когда ты весь в крови Камилла?.. Камилл был бесконечно добр ко мне, и я убила бы тебя — слышишь? — если бы это вернуло Камилла к жизни и вернуло бы мне его любовь.
— Замолчи, гадина!
— Зачем мне молчать? Я говорю правду. Ценою твоей крови я получила бы прощение. Ах, как я оплакиваю его, как страдаю! Моя вина, что этот негодяй убил моего мужа… Я должна как-нибудь ночью пойти на его могилу и поцеловать землю, в которой он покоится. Это — моя последняя радость.
Лоран, не помня себя, обезумев от жутких картин, которые рисовала перед ним Тереза, бросался на нее, валил на пол, прижимал коленом и заносил над ней кулак.
— Вот, вот, бей меня, прикончи меня!.. — вопила она. — Камилл никогда не поднимал на меня руку, а ты… ты чудовище.