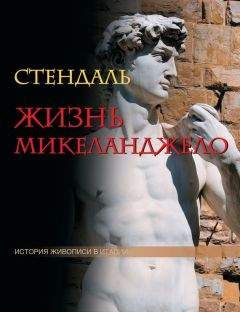Но едва ли ещё не худшую неприятность приберегал для него завтрашний день. Ему уже давно было известно, что его собирается посетить отец; и вот в это утро, когда Жюльен ещё спал, седовласый старый плотник появился в его узилище.
Жюльен пал духом; он ждал, что на него сейчас посыплются самые отвратительные попрёки. В довершение к этому мучительному состоянию его сейчас ужасно угнетало сознание, что он не любит отца.
«Случай поместил нас рядом на земле, — раздумывал он, в то время как тюремщик прибирал кое-как его камеру, — и мы причинили друг другу столько зла, что, пожалуй, больше и не придумаешь. И вот он явился теперь в мой смертный час, чтобы наградить меня последним пинком».
Суровые попрёки старика обрушились на него, едва только они остались одни.
Жюльен не удержался и заплакал. «Экое подлое малодушие! — повторял он себе в бешенстве. — Вот он теперь пойдёт звонить повсюду о том, как я трушу. Как будет торжествовать Вально, да и все эти жалкие обманщики, которые царят в Верьере! Ведь это могущественные люди во Франции: все общественные блага, все преимущества в их руках. До сих пор я по крайней мере мог сказать себе: «Они загребают деньги, это верно, они осыпаны почестями, но у меня, у меня благородство духа».
А вот теперь у них есть свидетель, которому все поверят, и он пойдёт звонить по всему Верьеру, да ещё с разными преувеличениями, о том, как я струхнул перед смертью. И для всех будет само собой понятно, что я и должен был оказаться трусом в подобном испытании».
Жюльен был чуть ли не в отчаянии. Он не знал, как ему отделаться от отца. А притвориться, да так, чтобы провести этого зоркого старика, сейчас было свыше его сил.
Он быстро перебирал в уме все мыслимые возможности.
— У меня есть сбережения! — внезапно воскликнул он.
Это восклицание, вырвавшееся у него как нельзя более кстати, мигом изменило и выражение лица старика, и всё положение Жюльена.
— И надо подумать, как ими распорядиться, — продолжал Жюльен уже более спокойно.
Действие, которое возымели его слова, вывело его из пришибленного состояния.
Старый плотник дрожал от жадности, как бы не упустить эти денежки; Жюльен явно намеревался уделить какую-то долю братьям. Старик говорил об этом долго и с большим жаром. Жюльен мог от души позабавиться.
— Так вот: господь бог вразумил меня насчёт моего завещания. Я оставлю по тысяче франков моим братьям, а остальное вам.
— Вот и хорошо, — отвечал старик, — этот остаток мне как раз и причитается, но ежели господь бог смилостивился над тобой и смягчил твоё сердце и ты хочешь помереть, как добрый христианин, надобно со всеми долгами разделаться. Сколько пришлось мне потратить, чтобы прокормить да учить тебя, об этом ты не подумал...
«Вот она, отцовская любовь!» — с горечью повторял Жюльен, когда наконец остался один. Вскоре появился тюремщик.
— Сударь, после свидания с престарелыми родителями я всегда приношу моим постояльцам бутылочку доброго шампанского. Оно, конечно, дороговато, шесть франков бутылка, зато сердце веселит.
— Принесите три стакана, — обрадовавшись, как ребёнок, сказал ему Жюльен, — да позовите ещё двух заключённых: я слышу, они там прогуливаются по коридору.
Тюремщик привёл к нему двух каторжников, которые, попавшись вторично, должны были снова вернуться на каторгу. Это были отъявленные злодеи, очень весёлые и поистине замечательные своей хитростью, хладнокровием и отчаянной смелостью.
— Дайте мне двадцать франков, — сказал один из них Жюльену, — и я вам расскажу мою жизнь всю как есть; стоит послушать.
— Но это же будет враньё? — сказал Жюльен.
— Ни-ни, — отвечал тот, — вот же тут мой приятель; ему завидно на мои двадцать франков, он меня враз оборвёт, коли я что совру.
Рассказ его был поистине чудовищен. Он свидетельствовал о неустрашимом сердце, но им владела только одна страсть — деньги.
Когда они ушли, Жюльен почувствовал себя другим человеком. Вся его злоба на самого себя исчезла без следа. Тяжкая душевная мука, растравляемая малодушием, которому он поддался после отъезда г-жи де Реналь, обратилась в глубокую грусть.
«Если бы я не был до такой степени ослеплён блестящей видимостью, — говорил он себе, — я бы увидел, что парижские гостиные полным-полны вот такими честными людьми, как мой отец, или ловкими мошенниками, как эти каторжники. И они правы; ведь никто из светских людей не просыпается утром со сверлящей мыслью: как мне нынче пообедать? А туда же, хвастаются своей честностью! А попадут в присяжные — не задумываясь, с гордостью осудят человека за то, что он, подыхая от голода, украл серебряный прибор.
Но вот подвернись им случай выдвинуться при дворе, или, скажем, получить или потерять министерский портфель — тут мои честные господа из светских гостиных пойдут на любые преступления, точь-в-точь такие же, как те, на которые потребность насытиться толкнула этих двух каторжников.
Никакого естественного права{250} не существует. Это словечко — просто устаревшая чепуха, вполне достойная генерального прокурора, который на днях так домогался моей головы, а между тем прадед его разбогател на конфискациях при Людовике XIV. Право возникает только тогда, когда объявляется закон, воспрещающий делать то или иное под страхом кары. А до того, как появится закон, только и есть естественного, что львиная сила или потребность живого существа, испытывающего голод или холод, — словом, потребность... Нет, люди, пользующиеся всеобщим почётом, — это просто жулики, которым посчастливилось, что их не поймали на месте преступления. Обвинитель, которого общество науськивает на меня, нажил своё богатство подлостью... Я совершил преступление, и я осуждён справедливо, но если не считать этого единственного моего преступления, Вально, осудивший меня, приносит вреда обществу во сто раз больше моего».
«Так вот, — грустно, но безо всякой злобы заключил Жюльен, — отец мой, несмотря на всю свою жадность, всё-таки лучше всех этих людей. Он никогда меня не любил. А тут уж у него переполнилась мера терпения, ибо моя постыдная смерть — позор на его голову. Этот страх перед нехваткой денег, это преувеличенное представление о людской злобе, именуемое жадностью, позволяют ему чудесным образом утешиться и обрести уверенность при помощи суммы в триста или четыреста луидоров, которую я в состоянии ему оставить. Как-нибудь в воскресенье, после обеда, он покажет это своё золото всем верьерским завистникам. За такую-то цену, красноречиво скажет им его взгляд, найдётся ли меж вас хоть один, который бы не согласился с радостью, чтобы его сын сложил голову на плахе?»
Эта философия, возможно, была недалека от истины, но она была такого рода, что от неё хотелось умереть. Так прошло пять дней. Он был вежлив и мягок с Матильдой, видя, что её гложет жестокая ревность. Однажды вечером Жюльен серьёзно подумал о том, не покончить ли ему с собой. Душа его была истерзана глубоким унынием, в которое поверг его отъезд г-жи де Реналь. Ничто уже больше не занимало его ни в действительной жизни, ни в воображении. Отсутствие всякого моциона начинало сказываться на его здоровье, и в характере его появилось что-то экзальтированное и неустойчивое, как у юного немецкого студента. Он незаметно утрачивал ту мужественную гордость, которая при помощи какого-нибудь крепкого словца отмахивается от иных недостойных мыслей, осаждающих человека.
«Я любил правду... А где она?.. Всюду одно лицемерие или по меньшей мере шарлатанство, даже у самых добродетельных, даже у самых великих! — И губы его искривились гримасой отвращения. — Нет, человек не может довериться человеку.
Госпожа де ***, делая благотворительный сбор в пользу бедных сирот, уверяла меня, что князь такой-то пожертвовал десять луидоров. Враньё! Да что я говорю! А Наполеон на острове Святой Елены... Чистейшее шарлатанство, прокламация в пользу короля Римского{251}.
Боже мой! Если даже такой человек, да ещё в такую пору, когда несчастье должно было сурово призывать его к долгу, унижается до шарлатанства, так чего же можно ждать от остальных, от жалкой человеческой породы?»
«Где истина? В религии разве... Да, — добавил он с горькой усмешкой невыразимого презрения, — в устах Малонов, Фрилеров, Кастанедов... быть может, в подлинном христианстве, служителям которого не следует платить за это денег, как не платили апостолам... Но святой Павел получал свою мзду: он наслаждался возможностью повелевать, проповедовать, заставлял говорить о себе...
Ах, если бы на свете существовала истинная религия!.. Безумец я! Мне грезится готический собор, величественные витражи, и слабый дух мой уже видит священнослужителя, молящегося у этих окон... Душа моя узнала бы его, душа моя нуждается в нём... Но вместо этого я вижу какого-то разряженного фата с прилизанными волосами... чуть ли не кавалера де Бовуази, только безо всех его приятностей.