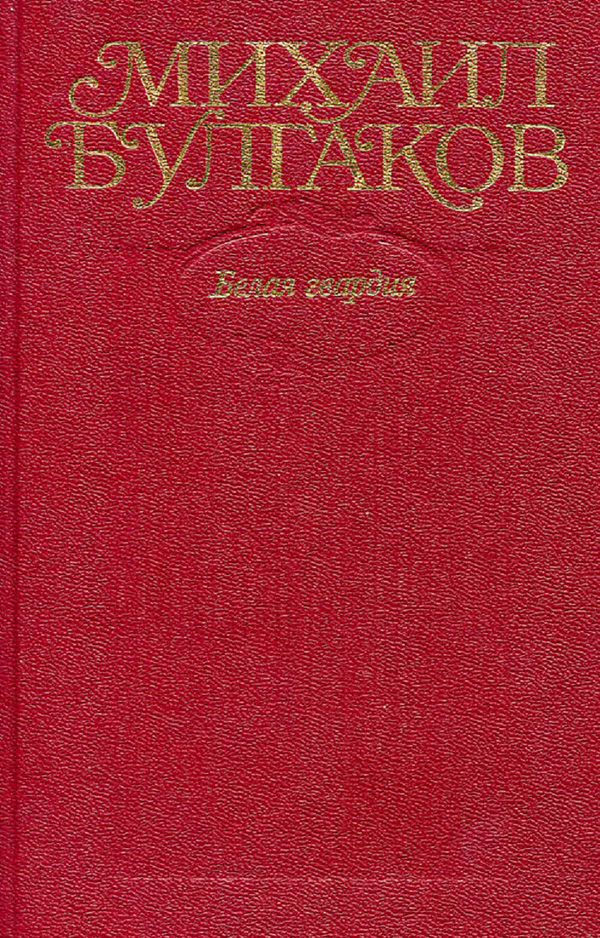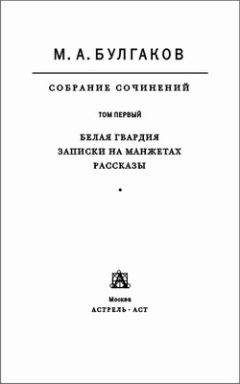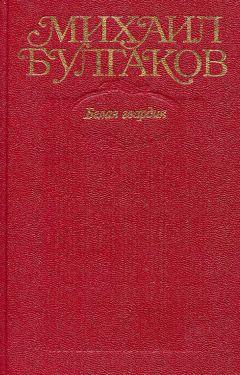у вас на каждом шагу слово «святой». Ничего особенно святого я в своем труде не вижу. Беру я за курс, как все. Если будете лечиться у меня, оставьте задаток.
— Очень хорошо.
Френч расстегнулся.
— У вас, может быть, денег мало, — пробурчал Турбин, глядя на потертые колени. «Нет, он не жулик... нет... но свихнется».
— Нет, доктор, найдутся. Вы облегчаете по-своему человечество.
— И иногда очень удачно. Пожалуйста, бром принимайте аккуратно.
— Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получим только там, — больной вдохновенно указал в беленький потолок. — А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы еще не видали... И наступят они очень скоро.
— Ну покорнейше благодарю. Я уже испытал достаточно.
— Нельзя зарекаться, доктор, ох, нельзя, — бормотал больной, напяливая козий мех в передней, — ибо сказано: третий ангел вылил чашу в источники вод, и сделалась кровь.
«Где-то я уже слыхал это... Ах, ну конечно, со священником всласть натолковался. Вот подошли друг к другу — прелесть».
— Убедительно советую, поменьше читайте Апокалипсис... Повторяю, вам вредно. Честь имею кланяться. Завтра в шесть часов, пожалуйста. Анюта, выпусти, пожалуйста...
* * *
— Вы не откажитесь принять это... Мне хочется, чтобы спасшая мне жизнь хоть что-нибудь на память обо мне... это браслет моей покойной матери...
— Не надо... Зачем это... Я не хочу, — ответила Рейсс и рукой защищалась от Турбина, но он настоял и застегнул на бледной кисти тяжкий, кованый и темный браслет. От этого рука еще больше похорошела и вся Рейсс показалась еще красивее... Даже в сумерках было видно, как розовеет ее лицо.
Турбин не выдержал, правой рукой обнял Рейсс за шею, притянул ее к себе и несколько раз поцеловал ее в щеку... При этом выронил из ослабевших рук палку, и она со стуком упала у ножки стола.
— Уходите... — шепнула Рейсс, — пора... Пора. Обозы идут на улице. Смотрите, чтоб вас не тронули.
— Вы мне милы, — прошептал Турбин. — Позвольте мне прийти к вам еще.
— Придите...
— Скажите мне, почему вы одни и чья это карточка на столе? Черный, с баками.
— Это мой двоюродный брат... — ответила Рейсс и потупила свои глаза.
— Как его фамилия?
— А зачем вам?
— Вы меня спасли... Я хочу знать.
— Спасла, и вы имеете право знать? Его зовут Шполянский.
— Он здесь?
— Нет, он уехал... В Москву. Какой вы любопытный.
Что-то дрогнуло в Турбине, и он долго смотрел на черные баки и черные глаза... Неприятная, сосущая мысль задержалась дольше других, пока он изучал лоб и губы председателя «Магнитного Триолета». Но она была неясна... Предтеча. Этот несчастный в козьем меху... Что беспокоит? Что сосет? Какое мне дело. Аггелы... Ах, все равно... Но лишь бы прийти еще сюда, в странный и тихий домик, где портрет в золотых эполетах.
— Идите. Пора.
* * *
— Никол? Ты?
Братья столкнулись нос к носу в нижнем ярусе таинственного сада у другого домика. Николка почему-то смутился, как будто его поймали с поличным.
— А я, Алеша, к Най-Турсам ходил, — пояснил он и вид имел такой, как будто его поймали на заборе во время кражи яблок.
— Что ж, дело доброе. У него мать осталась?
— И еще сестра, видишь ли, Алеша... Вообще.
Турбин покосился на Николку и более расспросам его не подвергал.
Полпути братья сделали молча. Потом Турбин прервал молчание.
— Видно, брат, швырнул нас Пэтурра с тобой на Мало-Провальную улицу. А? Ну что ж, будем ходить. А что из этого выйдет — неизвестно. А?
Николка с величайшим интересом прислушался к этой загадочной фразе и спросил в свою очередь:
— А ты тоже кого-нибудь навещал, Алеша? В Мало-Провальной?
— Угу, — ответил Турбин, поднял воротник пальто, скрылся в нем и до самого дома не произнес более ни одного звука.
Обедали в этот важный и исторический день у Турбиных все — и Мышлаевский с Карасем, и Шервинский. Это была первая общая трапеза с тех пор, как лег раненый Турбин. И все было по-прежнему, кроме одного — не стояли на столе мрачные, знойные розы, ибо давно уже не существовало разгромленной конфетницы «Маркизы», ушедшей в неизвестную даль, очевидно, туда, где покоится и мадам Анжу. Не было и погон ни на одном из сидевших за столом, и погоны уплыли куда-то и растворились в метели за окнами.
Открыв рты, Шервинского слушали все, даже Анюта пришла из кухни и прислонилась к дверям.
— Какие такие звезды? — мрачно расспрашивал Мышлаевский.
— Маленькие, как кокарды, пятиконечные, — рассказывал Шервинский, — на папахах. Тучей, говорят, идут... Словом, в полночь будут здесь...
— Почему такая точность: в полночь...
Но Шервинскому не удалось ответить — почему, так как после звонка в квартире появился Василиса.
Василиса, кланяясь направо и налево и приветливо пожимая руки, в особенности Карасю, проследовал, скрипя рантом, прямо к пианино. Елена, солнечно улыбаясь, протянула ему руку, и Василиса, как-то подпрыгнув, приложился к ней. «Черт его знает, Василиса какой-то симпатичный стал после того, как у него деньги поперли, — подумал Николка и мысленно пофилософствовал: — Может быть, деньги мешают быть симпатичным. Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные».
Василиса чаю не хочет. Нет, покорнейше благодарит. Очень, очень хорошо. Хе, хе. Как это у вас уютно все так, несмотря на такое ужасное время. Э... хе... Нет, покорнейше благодарит. К Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришел затем, чтобы передать Елене Васильевне письмо. Сейчас открывал ящик у двери, и вот оно. «Счел своим долгом. Честь имею кланяться». Василиса, подпрыгивая, попрощался.
Елена ушла с письмом в спальню...
«Письмо из-за границы? Да неужели? Вот бывают же такие письма. Только возьмешь в руки конверт, а уже знаешь, что там такое. И как оно пришло? Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в Город приходится посылать почему-то с оказией. И как все у нас глупо, дико в этой стране. Ведь оказия-то эта самая тоже в поезде едет. Почему же, спрашивается, письма не могут ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь, такое письмо дойдет, найдет адресата. Вар... Варшава. Варшава. Но почерк не Тальберга. Как неприятно сердце бьется».
Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так нехорошо,