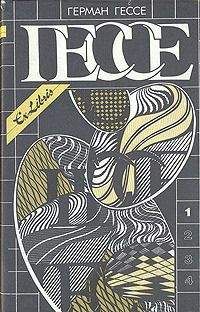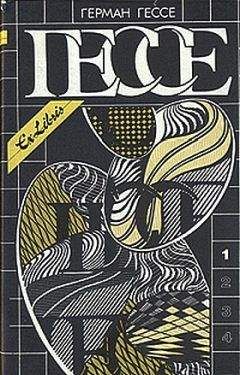С ненавистью метнул он борозду парижской лазури под зеленый цыганский фургон. С горечью кинул кромку хромовой желтой на придорожные тумбы. С глубоким отчаянием положил киноварь в оставленный пробел, убрал требовательную белизну, кровоточа сражался за долговечность, взывал светло-зеленой и неаполитанской желтой к неумолимому Богу. Со стоном бросил больше синей на вялую пыльную зелень, с мольбой зажег более проникновенные огни на вечернем небе. Маленькая палитра, полная чистых, несмешанных красок светящейся яркости, — она была его утешением, его башней, его арсеналом, его молитвенником, его пушкой, из которой он стрелял в злобную смерть. Пурпур был отрицанием смерти, киноварь была насмешкой над тленьем. Хороший был у него арсенал, блестяще держался его маленький храбрый отряд, сияя, громыхали быстрые выстрелы его пушек. Ведь ничего не поможет, ведь всякая стрельба напрасна, а все-таки стрелять хорошо, это счастье и утешение, это еще жизнь, еще торжество.
Ту Фу уходил навестить какого-то приятеля, жившего там, между фабрикой и грузовым причалом, в своем волшебном замке. Теперь он пришел и привел его с собой, этого звездочета-армянина.
Клингзор, закончив картину, облегченно вздыхал, когда увидел рядом с собой славные светлые волосы Ту Фу, черную бороду и улыбавшийся белыми зубами рот мага. А с ними пришла и тень, длинная, темная, с глубоко запавшими в глазницы глазами. Привет и тебе, тень, добро пожаловать, милая!
— Ты знаешь, какой сегодня день? — спросил Клингзор своего друга.
— Последний день июля, я знаю.
— Сегодня я составил гороскоп, — сказал армянин, — и узнал, что этот вечер кое-что принесет мне. Сатурн стоит зловеще, Марс нейтрально, Юпитер господствует. Ли Тай Пе, вы родились не в июле?
— Я родился второго июля[103].
— Так я и думал. Ваши звезды находятся в сложном положении, истолковать их можете только вы сами. Плодовитость окружает вас, как облако, готовое лопнуть. Странно стоят ваши звезды, Клингзор. Вы должны это чувствовать.
Ли собрал свои принадлежности. Погас мир, который он писал, погасло желтое и зеленое небо, утонуло синее светлое знамя, была убита и увяла прекрасная желтизна. Ему хотелось есть и пить, горло у него было забито пылью.
— Друзья, — сказал он ласково, — давайте проведем этот вечер вместе. Больше мы, четверо, вместе уже не будем, я прочел это не по звездам, это написано у меня в сердце. Мой месяц июль прошел, сумрачно горят его последние часы, из бездны зовет великая мать. Никогда не был мир так прекрасен, никогда не получалось у меня такой прекрасной картины, дрожат зарницы, зазвучала музыка гибели. Будем подпевать ей, этой сладостной страшной музыке, останемся вместе, будем пить вино и есть хлеб.
Возле карусели, шатер которой как раз покрывали крышей и готовили к вечеру, стояло несколько столов под деревьями, сновала хромая служанка, в тени укрылся маленький кабачок. Здесь они остались, уселись за стол из досок, был подан хлеб, разлито по глиняным чашкам вино, под деревьями зажглись огни, загремел органчик карусели, швыряя в вечер свою ломкую, пронзительную музыку.
— Я триста кубов осушу сегодня! — воскликнул Ли Тай Пе и чокнулся с тенью. — Привет тебе, тень, стойкий оловянный солдатик! Привет вам, друзья! Привет вам, электрические огни, дуговые лампы и сверкающие блестки на карусели! О, если бы здесь был Луи, эта непоседливая птица! Может быть, он уже прежде нас улетел в небо. А может быть, он уже завтра вернется, старый шакал, и не застанет нас и поставит дуговые лампы и шесты с вымпелами на нашу могилу.
Маг тихо удалился и принес еще вина, его красный рот весело улыбался белыми зубами.
— Печаль, — сказал он, бросив взгляд на Клингзора, — такая вещь, которую не надо носить с собой. Это так легко — достаточно одного часа, одного короткого напряженного часа со стиснутыми зубами, чтобы навсегда покончить с печалью.
Клингзор внимательно смотрел на его рот, на светлые, чистые зубы, которые некогда, в какой-то жгучий час, задушили и насмерть загрызли печаль. Получится ли и у него то, что получилось у звездочета? О короткий, сладостный взгляд в далекие сады: жизнь без страха, жизнь без печали! Он знал: эти сады ему недоступны. Он знал: ему суждено другое, по-другому глядел на него Сатурн, другие песни хотел играть Бог на его струнах.
— У каждого свои звезды, — медленно сказал Клингзор, — у каждого своя вера. Я верю только в одно: в гибель. Мы едем в повозке над пропастью, и лошади понесли. Мы обречены на гибель, мы все, мы должны умереть, мы должны родиться заново, для нас пришло время великого поворота. Везде одно и то же: великая война, великий перелом в искусстве, великий крах государств Запада. У нас в старой Европе умерло все, что было у нас хорошо и нам свойственно: наш прекрасный разум стал безумием, наши деньги — бумага, наши машины могут только стрелять и взрываться, наше искусство — это самоубийство. Мы гибнем, друзья, так нам суждено, зазвучала тональность Цзин Цзэ.
Армянин налил вина.
— Как хотите, — сказал он. — Можно сказать «да», и можно сказать «нет», это всего лишь детская игра. Гибель, упадок — это нечто не существующее на свете. Чтобы были упадок или подъем, надо, чтобы были низ и верх. Но низа и верха нет, это живет лишь в мозгу человека, в отечестве иллюзий. Все противоречия — это иллюзии: белое и черное — иллюзия, жизнь и смерть — иллюзия, зло и добро — иллюзия. Достаточно часа, одного жгучего часа со стиснутыми зубами, чтобы преодолеть царство иллюзий.
Клингзор слушал его славный голос.
— Я говорю о нас, — ответил он, — я говорю о Европе, о нашей старой Европе, две тысячи лет считавшей себя мозгом мира. Это гибнет. Думаешь, я не знаю тебя, маг? Ты посланец Востока, ты послан и ко мне, может быть, шпион, может быть, переодетый полководец. Ты здесь потому, что здесь начинается конец, потому, что ты чувствуешь здесь гибель. Но мы рады погибнуть, рады умереть, мы не сопротивляемся.
— Ты можешь также сказать: мы рады родиться, — засмеялся азиат. — Тебе кажется это гибелью, а мне, может быть, рождением. То и другое — иллюзия. Человек, который верит, что земля — это устойчивый диск под небом, видит подъем и гибель и верит в них, а в устойчивый диск верят все, почти все! Даже звезды не знают восхода и захода.
— Разве звезды не закатились? — воскликнул Ту Фу.
— Для нас, для наших глаз.
Он налил дополна чашки, он все время исполнял обязанности виночерпия, все время готов был услужить и улыбался при этом. Он сходил с пустым кувшином за новым вином. Оглушительно кричала карусельная музыка.
— Пойдемте туда, там так прекрасно, — попросил Ту Фу, и они пошли туда, стали у расписного барьера, смотрели, как кружится, беснуясь в ослепительном блеске мишуры и зеркал, карусель, как сотни детей пожирают глазами это сверканье. На миг Клингзор глубоко и смешливо почувствовал всю дикарскую первобытность этой вертящейся машины, этой механической музыки, этих ярких, буйных картин и красок, зеркал и нелепых украшенных столбов, во всем было что-то от знахаря и шамана, от волшбы и старинных крысоловов, и весь этот дикий, буйный блеск был, в сущности, не чем иным, как дрожащим блеском блесны, на которую, принимая ее за рыбку, ловится щука.
Всем детям надо было покататься на карусели. Всем детям давал Ту Фу деньги, всех детей угощала тень. Толпами окружали они дарителей, приставали, клянчили, благодарили. Одну красивую белокурую девочку двенадцати лет одаривали все, она не пропустила ни одного круга. В сияньи огней прелестно развевалась короткая юбка вокруг ее красивых мальчишеских ног. Один мальчик плакал. Мальчики дрались. Бичами хлопали под органчик литавры, вливая огонь в такт, опиум в вино. Долго стояли они вчетвером среди сутолоки.
Потом они снова сидели под деревом, армянин разливал по чашкам вино, ворошил гибель, улыбался светлой улыбкой.
— Три сотни чаш мы осушим сегодня, — пел Клингзор; его загорелая голова пылала желтым огнем, громко звенел его смех; печаль великаном преклонила колени на его трепещущем сердце. Он чокался, он славил гибель, желание умереть, тональность Цзин Цзэ. Бурно гремела музыка карусели. Но в глубине сердца сидел страх, сердце не хотело умирать, сердце ненавидело смерть.
Вдруг из трактира яростно вырвалась в ночь какая-то вторая музыка, пронзительная, горячая. На первом этаже, возле камина, карниз которого был красиво уставлен винными бутылками, грянуло механическое фортепьяно, пулеметом, яростно, ругательно, торопливо. Из расстроенного инструмента кричала боль, тяжелым паровым катком давил ритм стонущие неблагозвучия. Кругом был народ, свет, шум, танцевали парни и девушки, и хромая служанка тоже, и Ту Фу. Он танцевал с той белокурой девочкой, Клингзор смотрел на них, легко и прелестно развевалось ее летнее платьице вокруг тонких красивых ног, ласково улыбалось полное любви лицо Ту Фу. Возле камина сидели другие, пришедшие из сада, вблизи музыки, среди шума. Клингзор видел звуки, слышал краски. Маг брал бутылки с камина, откупоривал, наливал. Светлой была улыбка на его смуглом умном лице. Ужасно гремела музыка в нижнем зале. В шеренге старых бутылок над камином армянин медленно пробивал брешь — так святотатец забирает из алтарной утвари чашу за чашей.