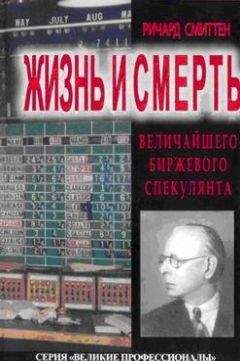Ознакомительная версия.
— Какая страшная ночь! — сказала Эйлин, входя в зимний сад и слегка отодвигая парчовую штору.
— Да-а, скверная погода, — отвечал Каупервуд, когда она отошла от окна.
— Ты собиралась сегодня куда-нибудь?
— Нет, — отвечала Эйлин равнодушно. Она снова вернулась было к роялю, но тотчас же встала, охваченная непонятной тревогой, и вышла в картинную галерею. Остановившись перед «Святым семейством» Рафаэля, одним из последних приобретений Каупервуда, она задумалась, глядя на безмятежное лицо средневековой итальянской мадонны. Богоматерь показалась ей хрупкой, бесцветной, бескостной — совсем безжизненной. Разве есть на свете такие женщины? И что в них находят художники? Правда, младенец Христос очень мил! Живопись нагоняла на Эйлин скуку; ей нравились лишь те картины, которые вызывали бурный восторг окружающих. Эйлин интересовала только сама жизнь и в наиболее ярких своих проявлениях, а никак не бледные ее подобия. Она вернулась в гостиную, прошла оттуда в зимний сад и хотела было подняться наверх, чтобы, приготовив себе виски с содой, взяться за чтение романа, когда услышала за своей спиной голос Каупервуда:
— Ты очень скучаешь, скажи по правде?
— Нет. Я уже привыкла к одиноким вечерам, — ответила Эйлин просто, без всякой колкости.
Каупервуд, безжалостно подчинявший своим желаниям всех и вся, был порою не чужд сострадания — впрочем, столь же эфемерного, как мост, перекинутый радугой через пропасть. Ему вдруг захотелось сказать Эйлин: «Бедная девочка, нелегко тебе со мной!» Но мысль о том, как она истолкует эти слова, остановила его. Он задумался, держа раскрытую книгу на коленях и глядя на серебристые струи, которые с легким журчанием падали в бассейн и осыпали искристыми брызгами тритона и восседающих на рыбах мраморных наяд.
— Ты несчастлива со мной, Эйлин, — произнес он. — Может быть, тебе будет лучше, если я совсем уйду из твоей жизни?
Мысли его внезапно снова обратились к той единственной цели, которая никогда не давала ему теперь покоя, и он подумал, что сейчас представляется удобный случай высказать все.
— Тебе будет лучше, а не мне, — отвечала Эйлин, ее равнодушно-скучающий вид был только маской; она была глубоко несчастна, отчетливо сознавая, что ни мысли, ни чувства Каупервуда больше не принадлежат ей.
— Зачем ты так говоришь? — спросил он.
— Потому что знаю, что ты этого хочешь, и знаю, для чего ты спрашиваешь. Дело совсем не в том, чего я хочу, а в том, чего хочешь ты. А ты хочешь вышвырнуть меня, потому что я тебе надоела, выгнать вон, как старую клячу, которая отслужила свой век, и еще спрашиваешь, не будет ли мне от этого лучше! Какой ты лицемер, Фрэнк! Какой ты лживый человек! Не удивительно, что ты стал архимиллионером. Ты рад был бы пожрать весь мир, если бы у тебя хватило на это жизни. Ты думаешь, я не знаю, что здесь в Нью-Йорке есть некая Беренис Флеминг, перед которой ты пляшешь на задних лапках? Да, ты бегаешь за ней уже несколько месяцев — с тех самых пор, как мы переехали сюда, да и раньше, верно, бегал. Тебе кажется, что лучше ее никого нет, только потому, что она молода и принята в обществе. Я видела тебя в ресторане «Уолдорф» и в парке, видела, как ты не сводил с нее глаз, как ты слушал, разиня рот, каждое ее слово. Какой же ты дурак, несмотря на все твое величие! Любая девчонка, если у нее розовые щеки и кукольное личико, может обвести тебя вокруг пальца. Рита Сольберг! Стефани Плейто! Флоренс Кокрейн! Сесили Хейгенин! Да мало ли еще кто — разве я всех знаю. А миссис Хэнд, верно, до сих пор встречается с тобой, когда ты бываешь в Чикаго, дрянь паршивая! А теперь вот Беренис Флеминг с этим своим старым чучелом — мамашей! Я знаю, тебе еще ничего не удалось добиться — должно быть, мамаша себе на уме, ну да ты добьешься! Им ведь не ты нужен, а твои деньги. Смешно! Что говорить, счастливой меня, конечно, не назовешь, но только ты моему горю уже ничем помочь не в состоянии. Ты все силы приложил к тому, чтобы сделать меня несчастной, а теперь спрашиваешь, не лучше ли мне будет вдали от тебя? Ловко придумано, ничего не скажешь! Я ведь знаю тебя, как свои пять пальцев, Фрэнк! Больше ты меня уж не проведешь. Конечно, я не могу помешать тебе строить из себя дурака из-за каждой встречной девчонки и срамиться на всю Америку. Господи ты боже мой, да ведь ни одна порядочная женщина не может показаться в твоем обществе, без того чтобы не погубить своей репутации! Сейчас уже весь Бродвей знает, что ты волочишься за Беренис Флеминг. Скоро ты опозоришь ее, как опозорил других. Скажи ей: она может уступить тебе, все равно ей уже нечего терять. Если у нее было честное имя, ты давно втоптал его в грязь.
Эти слова взбесили Каупервуда — особенно то, что Эйлин посмела задеть Беренис. Ну что ты будешь делать с такой женщиной? — подумал он. Ее язык стал совершенно непереносим. Сколько грубых, вульгарных слов! Настоящая мегера! Да, конечно, конечно, он совершил громадную ошибку, женившись на ней. Но в конце концов он сломит ее упорство.
— Эйлин, — сказал он холодно, когда она умолкла. — Ты слишком много говоришь. Ты неистовствуешь. По-моему, ты становишься вульгарной. Разреши мне сказать тебе кое-что. — Взгляд его был тверд, и она сразу присмирела.
— Я не собираюсь просить у тебя прощения. Оставайся при своем мнении. Но я хочу, чтобы ты поняла, отчетливо поняла то, что я скажу, если, конечно, в тебе есть хоть капля женского достоинства. Я не люблю тебя больше. Или, если хочешь, — как ты сама изволила выразиться, — ты мне надоела. Надоела уже давно. Поэтому я и изменял тебе. Если бы я любил тебя, я бы тебе не изменял. Теперь я люблю другую женщину — Беренис Флеминг, и думаю, что всегда буду ее любить. Я хочу быть свободным, хочу устроить свою жизнь так, чтобы испытать какую-то радость, прежде чем я умру. Ты, в сущности, уже не любишь меня. Не можешь меня любить. Я признаю, что поступал с тобой дурно, но ведь если бы я любил тебя, я бы этого не делал, не так ли? Ну, а виноват ли я, что любовь умерла? И ты не виновата. Я тебя и не виню. Пламя любви нельзя раздуть по желанию, как угли в камине. Если огонь угас — значит, все кончено. Я не люблю тебя больше и не могу любить — зачем же ты хочешь, чтобы я оставался с тобой? К чему тебе удерживать меня, почему не дать мне развода? Ты будешь так же счастлива или так же несчастна вдали от меня, как и со мной. Я хочу снова быть свободен. Я не могу быть счастлив с тобой, я понял это уже давно. Я сделаю все, что ты потребуешь. Оставлю тебе этот дом, эти картины — хотя, по правде говоря, не знаю, зачем они тебе. (Каупервуду очень не хотелось отдавать Эйлин свою коллекцию, если бы была хоть малейшая возможность избежать этого.) Я назначу тебе пожизненное обеспечение, в том размере, какой ты сама определишь, или выделю сразу большое состояние. Я хочу, чтобы ты дала мне свободу. Будь же благоразумна, Эйлин, и согласись.
Каупервуд начал свою речь сидя, закончил — стоя. Когда он заявил, что его любовь умерла, — впервые смело и без обиняков признался в этом, — Эйлин побледнела и прикрыла глаза рукой. Тут он встал. Он говорил холодно, решительно, даже мстительно, пожалуй, вначале. Эйлин поняла, что в сердце его не осталось и следа былых чувств, не осталось даже воспоминаний — сладостных, связующих воспоминаний — о тех счастливых днях, часах, минутах, которые были так дороги, так незабываемы для нее. Боже мой, боже мой, так это правда? Его любовь умерла, он сам признал это… Но нет, Эйлин не верила его словам, не хотела им верить! Нет, нет, это неправда, этого не может быть!
— Фрэнк, — проговорила она, приближаясь к нему, но он отшатнулся от нее. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, руки ее дрожали, губы судорожно подергивались. — Это же неправда, неправда, скажи? Ты не мог совсем, совсем разлюбить меня, Фрэнк? Ведь ты так любил меня! О Фрэнк, я злилась, я ненавидела тебя, я говорила ужасные, отвратительные вещи, но ведь это все только потому, что я люблю тебя. Всегда любила тебя. Ты сам знаешь. Я так страдала! Так страдала! Моя подушка часто бывала, мокрой от слез, Фрэнк! Я лежала и плакала ночи напролет. Или бродила до утра из угла в угол. Я пила виски, чистое, неразбавленное виски, потому что сердце у меня разрывалось от муки. Я сходилась с мужчинами, ты знаешь это, но, боже мой, боже мой, Фрэнк, ты же знаешь, что я этого не хотела, мне совсем это было не нужно! Потом мне всегда было тошно вспоминать! Ведь это только от одиночества, только потому, что ты был так неласков ко мне, совсем не обращал на меня внимания. Как я томилась, Фрэнк, как мечтала, чтобы ты опять любил меня, хоть одну ночь, один день, один только час! Есть женщины, которые умеют страдать молча, а я не могу. Мысли о тебе, воспоминания мучают меня, не дают мне покоя. Я не могу не думать о том, как я бегала к тебе на свидания в Филадельфии, как поджидала тебя, когда ты возвращался домой, как приходила к тебе на Девятую улицу и на Одиннадцатую… О Фрэнк, верно я причинила большое зло твоей первой жене. Я понимаю теперь, как она должна была страдать. Но ведь я была просто девчонка, глупая девчонка и совсем не знала жизни! Фрэнк, неужто ты забыл, как я изо дня в день приходила к тебе в филадельфийскую тюрьму? Ты сказал мне тогда, что никогда не забудешь этих дней, что будешь любить меня вечно. Разве ты не можешь любить меня, ну хоть немножко, совсем немножко! Ведь это неправда, что твоя любовь умерла! Разве я так уж изменилась, так постарела? О Фрэнк, не говори, что ты совсем не любишь меня, прошу тебя, прошу, не говори так, заклинаю тебя!
Ознакомительная версия.