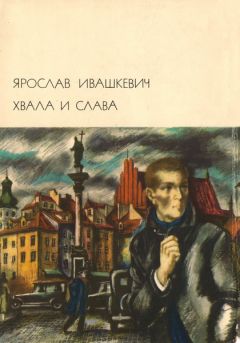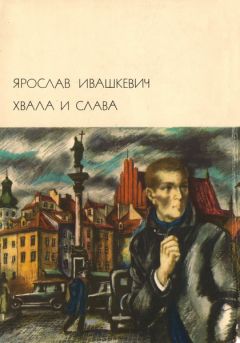Зося усмехнулась уже открыто.
— Я ведь провинциалка, и мне туалет Эльжбеты показался восхитительным…
— Ты просто кокетничаешь своим церковноприходским воспитанием, — заметил Януш, раздраженно помешивая чай ложечкой.
Зося покраснела до корней волос.
— Ты же знаешь, что здесь мне не перед кем кокетничать, — тихо произнесла она.
И невольно взглянула на Алека. Тот сидел как на иголках, такой же красный, как она. Большие голубые глаза его рядом с пурпуром щек казались фарфоровыми. Зосе сделалось неловко.
— Януш сегодня с левой ноги встал, — обратилась она к золовке, — такого наговорил там о «Шехерезаде»…
— Тебе что, песни Шиллера не понравились? — спросила Билинская.
Януш с укором взглянул на Зосю.
— Неужели мне опять повторять все сначала? Я уже объяснял, что мне лично песни Эдгара очень понравились. Но дело совсем в другом…
Билинская махнула рукой.
— Не жалую я твою концепцию искусства.
Януш сердито отхлебнул чай. С минуту царило молчание. И вдруг Алек чуть хрипловатым, а может быть, срывающимся от волнения голосом спросил:
— Дядя, а что сейчас цветет в оранжереях в Коморове?
— Туберозы, — лаконично ответил Мышинский.
— Ты даже не представляешь, какой чудесный запах в оранжерее, — обратилась Зося к Алеку, — просто дух захватывает. Так, наверно, пахнут тропические цветы. — Потом, обернувшись к княгине, сказала: — Отпусти, Марыся, как-нибудь Алека к нам. Пусть посмотрит на цветы в оранжерее, поохотится. В этом году у нас множество куропаток.
— Не люблю, когда Алек стреляет, — безапелляционно заметила Билинская.
Януш внимательно посмотрел на нее.
— Боюсь, что ему придется немало пострелять в своей жизни.
— Какое ужасное пророчество! — засмеялась Мария. И чтобы сгладить неприятное впечатление от слов Януша, спросила: — Выпьешь еще чаю?
— Спасибо, — откликнулся Януш, — нам пора спать. Зося еще неважно себя чувствует, а рано утром надо ехать в Коморов. Ну, Алек, так когда же ты приедешь охотиться на куропаток?
Алек молча взглянул на мать.
— Ну хоть просто так приезжай, — ласково произнес дядя и поцеловал его в голову.
Когда они были уже у себя — в бывшей комнате Януша на третьем этаже, к ним заглянула Текла.
Разумеется, тут же зашел разговор об аресте Янека. Станислав узнал об этом только вечером и, к удивлению всех, не огорчился, а только рассвирепел и заявил даже: «Говорил я, что все его смутьянство до добра не доведет». Рассказав об этом, Текла добавила:
— Я и не думала, что Станислав такой рассудительный человек. Мне всегда казалось, что он всех нас ненавидит, а ты гляди, оказалось, что он предан нам.
Текла была рада — похоже, что кто-то разделяет с нею преданность дому Билинских. Вся жизнь ее проходила под сенью «великолепной» жизни этого дома, и она от всей души желала, чтобы жизнь эта и впрямь была «великолепной», то есть внешне блистательной. Темным пятном казалась ей только женитьба Януша и его тусклая, заурядная жизнь где-то на отшибе. В Зосе она видела причину того, что Януш удалился от «света», и поэтому все свои сетования и сожаления выливала на ее голову. Однако на этот раз говорить с молодыми ей пришлось недолго — появился Станислав и попросил выдать ему на завтра скатерть и салфетки, и она тут же вышла за ним, тихо ступая в своих войлочных, отделанных мехом туфлях.
Януш и Зося остались одни. Зося начала раздеваться, Януш сел в кресло, закурил и стал вспоминать то время, когда он холостяком занимал эту комнату и, учась в Высшей торговой школе, мечтал о поездке в Париж. На миг припомнилась ему Ариадна и ее по-мужски, на парижский лад, остриженная голова. Тем временем Зося, достав из шкафа и накинув на себя розовый «варшавский» халат, села на постель и тоже задумалась.
— Ты только представь, — сказала она вдруг, — здесь жизнь идет своим чередом — концерт, чай, картины, чистые салфетки, а там человек сидит в тюрьме. Упал камень в воду, а лягушки себе квакают, и камыши так же шумят.
Януш неумело пускал колечки дыма — курить он стал недавно, соблазнившись примером своего садовника. Помолчав некоторое время, он равнодушно отозвался:
— Так всегда было!
— Неправда, — с жаром воскликнула Зося, — неправда! Так было лишь тогда, когда шла борьба.
— А борьба идет всегда, — сонно буркнул Януш.
— Борьба! Но за что? — все с тем же жаром продолжала Зося. — И ты всегда все тот же. Борьба! Борьба! А сам дремлешь в этом кресле, пуская клубы дыма. И зачем только ты научился курить? — сварливо добавила она.
— Дорогая моя, неужели что-то изменится от того, что я буду кричать, повышать голос, махать руками? Ни моя судьба, ни судьба Янека от этого не изменится.
— От твоей болтовни наверняка не изменится.
— Это верно, — согласился Януш, — но я никогда не умел много говорить. И буду я говорить или не буду — не только наши судьбы, а и вообще ничего не изменится.
— Это еще вопрос — нужно ли, чтобы изменялось.
— Нет, тут двух мнений быть не может. Должно измениться! Но все зависит не от того, что я буду говорить, а только от того, что буду делать.
— Ты ничего не делаешь, — прошептала Зося.
— Абсолютно ничего, — откликнулся Януш.
И вновь выпустил несколько колечек дыма, внимательно следя за ними. Зося плотнее закуталась в халат. Долгое время они молчали.
— Холодно тут что-то, — сказала Зося, — не хочется идти в ванную.
И вдруг заломила руки.
— Как я не люблю здесь ночевать! — воскликнула она патетически. — До чего мне здесь всегда не по себе! И мысли какие-то неприятные.
— А в Коморове мысли приятные?
— Так и стоит у меня перед глазами этот Янек, — продолжала Зося, не обращая внимания на вопрос Януша, — и насмешливый взгляд той девчонки, что смотрела на нас, в гардеробе. Почему она смотрела на нас такими глазами? Отвратительная она, эта «Жермена».
— А знаешь, я не удивляюсь, что она так смотрела на нас. Думаю, что она совсем не понимала, как мы можем там находиться.
— Но ведь понимает же она, что такое концерт?
— Что такое концерт, возможно, и понимает. Но что такое концерт, когда арестован ее дядя, ее опекун, — этого наверняка не понимает. Мы этого тоже, вероятно, не поняли бы.
Зося шевельнулась на постели, но, вместо того чтобы встать, прилегла, отвернув угол одеяла, прикрыла ноги и задумалась.
— Значит, все прекрасное, что было там, — Эльжбета Шиллер, и эти песни Эдгара, и эта музыка, такая… ласкающая, нет, даже не ласкающая, а захватывающая, и Бетховен, которого мы не слушали, — все это ничего не значит только потому, что Янек Вевюрский сидит за решеткой?
Януш улыбнулся, нагнулся в кресле и положил свою ладонь на свисающую с постели руку Зоси.
— Нет, значение все это имеет, только совсем другое.
— Какое же? — насторожилась Зося.
— Не то, какое мы придавали концерту, слушая его, и не то, какое Эдгар придавал своим песням, сочиняя и слушая их потом со слезами на глазах. Я наблюдал за ним в ложе… Они все еще думают, что спасение человечества в искусстве. Вот это я и хотел сказать после концерта, но меня никто не понял. Не поняла и ты.
— Потому что ты не подготовил меня к этому. Ведь ты же никогда не говоришь мне, что ты думаешь.
Януш вновь уселся спокойно, глядя на папиросный дымок.
— А я еще так не думал. Но именно во время концерта все эти мысли и пришли мне в голову, а потом… И поэтому я никогда тебе об этом не говорил. Да и вообще я не умею говорить о таких вещах, мне это кажется слишком патетичным, слишком величественным, особенно там, в деревне, где я роюсь в навозе и выращиваю примулы. Видишь ли, я в противоположность тебе люблю ночевать на Брацкой. Это напоминает мне мою холостую жизнь и все, что я здесь пережил. Хотя пережито было не так уж много.
Я, собственно, все пережил еще там, в Маньковке. В самой ранней молодости, наедине с выживающим из ума отцом. Вот его игра на пианоле действительно не имела никакого значения.
— Потому что ты доискиваешься метафизического значения во всех мелочах жизни, во всем, что нас окружает.
— Не знаешь ты меня, Зося, — с какой-то горечью сказал Януш, — вот и приписываешь мне пристрастие к метафизике.
Зося вскочила с постели, села перед зеркалом и принялась причесываться на ночь. Когда она распустила волосы, лицо ее стало еще тоньше, а глаза запали еще глубже. Этот болезненный вид выводил ее из себя, напоминая о недавно пережитой беде.
— А откуда мне тебя знать? — отозвалась она, раздирая гребнем волосы. — Откуда? Так я никогда тебя не узнаю. Сидишь, как сыч, и каждый раз говоришь что-нибудь другое. Каждый раз, когда у нас завязывается настоящий разговор, ты мне кажешься иным, и что хуже всего — совсем не новым! И все твои разновидности — это круговращение вокруг одного и того же кола, к которому ты привязан невидимой, но крепкой веревкой.