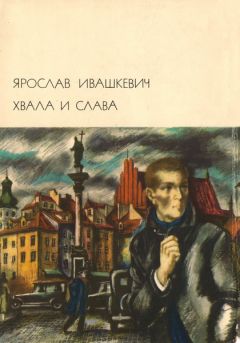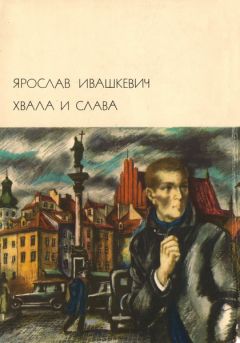Ведь она же знала — на то и материнский инстинкт, — что дочка не будет жить. А может быть, и не знала? Разве придавала бы она такое значение имени ребенка — Мальвина, имени покойной матери? Разве стала бы называть крошку этим сочным, ярким именем, если бы знала, что ребенок не будет жить? Врач сразу же после родов сказал, что у девочки врожденный порок сердца, причем порок неизлечимый, и что она не проживет и полгода. Но Мальвинка прожила ровно семь месяцев. Она уже начинала лепетать что-то Янушу и Ядвиге, когда они склонялись над ее постелькой. Мучительнее всего были эти сны. Потом Януш припомнил, что начались они с того самого дня, когда умерла Зося. Когда под утро он забылся тяжелым сном, ему вдруг привиделось, что он не то в карете, не то даже в открытой коляске едет венчаться с Ариадной. Коляска запряжена четверкой белых коней, Ариадна в белом подвенечном платье с фатой, а вместо букета на руке у нее лежит ребенок, — жалкий, худой, с движениями обезьянки, — и поглядывает на него маленькими желтыми глазками. Ариадна держит Януша под руку, вот она крепко прижалась к нему, потому что кони вдруг подняли в воздух коляску вместе с ними и обезьянкой. «Держи меня, держи, не то упаду!» — закричала Ариадна, но тут коляска перевернулась в воздухе и это существо — не то ребенок, не то обезьянка — у них на глазах полетело вниз, растопырив конечности. Януш проснулся с жутким сознанием, что хотя этот сон был и не самым страшным из кошмаров, но именно его он не забудет до конца жизни.
Ночи его теперь состояли из чередования снов и бессонницы, у него было такое чувство, что он постоянно бодрствует, не ощущая при этом реальности окружающего мира. Он заметил — правда, только через некоторое время, — что иногда у него непроизвольно вырывается что-то похожее на стон или прерывистый вздох, какое-то покашливание. Этот пугающий звук даже понравился ему, и со временем он стал вызывать его намеренно — за обедом, прогуливаясь в саду, даже разговаривая с Фибихом или с Билинской, которая считала своим христианским долгом (с годами она становилась все набожнее) как можно чаще навещать брата. Для Януша это было настоящей пыткой; он каждый раз с испугом смотрел из окна гостиной на возникающий в воротах заваленного соломой двора радиатор автомобиля Билинской. Алек, наоборот, нисколько не раздражал его, хотя он находился сейчас в самом несносном возрасте — непрестанно подчеркивал, что он не сноб, что друзья у него «из простых» и что на охоту он ездит с представителями самых плебейских охотничьих обществ, состоящих чуть ли не из парикмахеров и официантов. Алек тяжело переживал смерть Зоси, хоть и не умел выразить своих чувств. Приехав, он обычно молча сидел в комнате Януша. Но Януш угадывал в нем куда больше искренности и чуткости, нежели в Марии. Алек прибегал теперь к покровительству Януша в спорах с матерью и Спыхалой, которые во что бы то ни стало хотели отправить его обратно в Англию.
— Да съезди ты на год, — советовал Януш, — что тебе, жалко? А потом поступишь учиться в свою злосчастную академию.
— А если я уже сейчас хочу там учиться? — доказывал Алек.
Повторялось это каждый раз, когда он приезжал в Коморов.
А приезжал он теперь часто. Что ж, время до осени у него еще было…
Эдгар прислал только одно письмо. С поездкой в Америку у него так ничего и не получилось, и он сидел в Варшаве, не решаясь запросто приехать к Янушу. Так что, собственно говоря, Януш остался совсем один. Не с кем было даже словом перемолвиться, и, когда приходил вечер, полный тишины и покоя, гудел ветер, пылал огонь — все атрибуты сельского одиночества, — он оставался один на один со сном и явью, близкой ко сну.
И вот тогда в его взбудораженном мозгу возник замысел, даже не замысел, а безотчетное стремление «сыграть» все заново, с самого начала. Как во сне, возникали очертания гейдельбергского леса, этих «каштановых чащ», и слова поэта, которого Хорст называл «der Dichter», и Янушу захотелось испытать себя. Неужели из клубка всех этих сложностей, из всех этих пейзажей — долина Неккара и Мангейм в глубине пурпурного горизонта — вновь возникнет вдруг бесконечная жажда любви к простой девушке? Неужели он вновь бросит все это и поедет в Краков?
Ему неудержимо хотелось сыграть еще раз эту невольную комедию, повторить погоню, любой ценой найти девушку, которая по грязи пришла к нему из Сохачева, хотелось сыграть этот грандиозный «спектакль для самого себя», головоломную скачку в старый польский город.
Из снов возникла потребность увидеть старую колею знакомой дороги. Еще Мальвинка была в живых, когда он уже знал, что поедет в Краков. И вот маленькое сердечко Мальвинки, — было видно, как неровно бьется оно в грудной клетке, когда ребенка раздевали для купания, — совершенно неожиданно остановилось однажды в самый полдень. Ничто не предвещало несчастья. Еще утром она смеялась, нет, не смеялась, а улыбалась отцу как-то искоса, еще задирала ножки, стараясь поймать себя за пальцы. И ведь она не выглядела заморышем, врачи говорили даже, что она полновата. Утром смеялась — а в полдень ее уже не было. Немного осеннего солнца падало в комнату.
Вот тогда-то Януш твердо решил, что поедет в Краков, хотя не в состоянии был даже самому себе ответить — зачем. Хотелось обойти дома, тот, что на Сальваторе, и тот — на Голембьей. Побывать в том ресторане, а может быть, даже зайти к супруге доктора Вагнера, увидеть переднюю, разделенную коричневой бархатной портьерой, и спросить… Нет, лучше спросить у тети Марты, она такая интеллигентная, со следами былой красоты, на шее лиловая бархотка. Да, спросить у тети Марты: «Простите, вы не скажете, любил ли я Зосю?»
Но уже и ехать-то в Краков пришлось иначе, чем тогда. Тогда ехали через Ченстохов и, не доезжая Варшавы, пересаживались на Западном вокзале на Сохачев. А теперь, через Радом по новой одноколейной ветке, по которой, казалось, никто и не ездит. Станции стояли пустынные, а железнодорожный путь вился полями и лесами, точно только что проложенный и будто ненастоящий. Была тут станция Бартодзеи, название это показалось Янушу знакомым: он слыхал его в доме Голомбеков. Мокрые поля, невеселые леса в сумрачном осеннем освещении, в потоках дождя, который проносился над низиной и как будто вновь и вновь возвращался — все это было непохоже на тот июньский пейзаж. Потом сразу потемнело, на западе из-за синей тучи проглянула малиновая полоса, в вагоне зажгли свет — и все стало таким чуждым, что Янушу захотелось вернуться домой.
Ни один город не выглядит так по-разному осенью и зимой, как Краков. Во всяком случае, так подумал Януш, идя с вокзала Бульварами на Славковскую к Гранд-отелю. Бульвары были грязные, и в голых, освещенных слабым электрическим светом ветвях невозможно было узнать формы летних кустов и деревьев. Пахло все той же краковской, низко стелющейся сыростью, и в воздухе тянулась густая и непроницаемая морось. Брама Флорианская казалась низкой и сиреневатой, под нее нырял похожий на детскую игрушку, крохотный смешной синий трамвайчик.
К величайшей досаде Януша, мест в Гранд-отеле не оказалось. Портье клялся всеми святыми — видимо, так на самом деле и было. Пришлось остановиться в «Саксонской». Хотя эти гостиницы находились рядом и выходили на одну улицу, они очень отличались друг от друга. Как бы то ни было, Януш махнул рукой на отсутствие воды в кранах и на потрескавшиеся фаянсовые большие старомодные тазы на мраморном умывальнике. «Родители мои живали «Под розой» — и ничего, — заметил он про себя. Вообще, приехав в Краков, он чувствовал себя несколько возбужденным и не хотел признаться в том, что город этот, лишенный зелени и тепла, кажется ему хмурым и что он боится одиночества здесь.
Он поспешил улечься в постель. И проспал глубоким сном, примерно до трех ночи, когда его разбудил голос какого-то пьяного, идущего по Славковской. Пьяный во все горло пел «Эх, как весело в солдатах». Януш проснулся, слушал эту песню и все не мог понять, где он находится. Кроме всего прочего, песня показалась ему какой-то ненастоящей, здесь ее нельзя было петь. Она была принадлежностью иного пейзажа и иных снов. И действительно, когда он заснул, ему приснился Юзек Ройский, он стоял возле постели и протягивал ему руку со словами: «Это ничего, Баська, ничего»{135}. Януш повторял за ним эти слова, точно молитву или заклинание, и с этими словами опять проснулся, хоть и не совсем. Так он и торчал в постели, и такое чувство было у него, будто торчит он в ней, как гвоздь в доске. И все твердил сквозь сон: «Как гвоздь в доске».
Когда наконец рассвело, он встал разбитый, уже неуверенный, правильно ли он сделал, что приехал сюда. Одевшись и побрившись, он сел в кресло и принялся рассматривать огромный номер с двуспальной кроватью, потом наблюдал, как ноябрьский день пробивается сквозь затуманенные окна, и просидел так довольно долго. Потом пошел завтракать в кафе при Гранд-отеле.