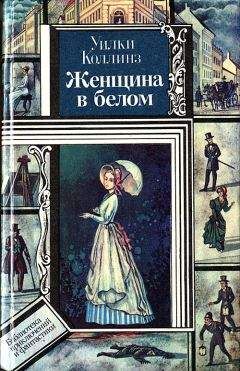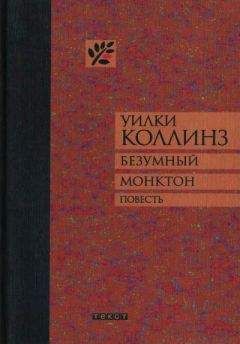— Цель, которую преследует наше Братство, — продолжал он, — та же самая, которую преследуют и все другие политические общества: свержение тиранов и защита прав народа. У Братства два принципа: пока жизнь человека полезна или он хотя бы не причиняет вреда окружающим, он имеет право на нее. Но если он живет во вред другим, он теряет право на жизнь. Отнять у него жизнь является не только не преступлением, но необходимым, правильным поступком. Не мне рассказывать вам, англичанину, в каких страшных условиях угнетения и насилия зародилось наше общество. Вы, англичане, так давно завоевали свободу, что уже успели позабыть, сколько крови за нее было пролито, и не вам судить, на какие крайности могут пойти с отчаяния люди, принадлежащие к угнетенной нации. Наши страдания вам непонятны. Горе, которое выжгло наши сердца, слишком глубоко, чтобы вы могли его увидеть. Не судите нас! Можете смеяться над нами, не доверять нам, удивляться нам — но не осуждать нас! Широко раскрывайте глаза при виде нашего подлинного «я», которое теплится порой в глубине наших сердец под покровом внешней респектабельности, как, например, у меня, и живет порой в тех, кому не так повезло, как мне, менее гибких и выносливых, задавленных постоянной нуждой или безвыходной нищетой. Во времена вашего Карла Первого[16] вы, может быть, могли бы отнестись к нам по всей справедливости, но благодаря вашей многовековой свободе вы теперь стали не способны понять нас.
Впервые в жизни он открыл мне свое сердце, слова его шли от самой глубины души и были глубоко искренними, но он говорил тихо, вполголоса, сам ужасаясь своей откровенности.
— Пока что вам, наверно, кажется, что наше Братство не отличается от других ему подобных обществ. С вашей, английской, точки зрения, цель его — сеять анархию и подготовлять революцию. Убивать плохого короля или скверного министра, как если б и тот и другой были опасными дикими зверями, которых необходимо уничтожать при первой же возможности. Предположим, что это так. Но закон нашего Братства отличается от правил других тайных обществ. Члены Братства не знают друг друга. У нас есть президент в Италии и президенты за границей, у них есть секретари. Президенты и секретари знают членов нашего Братства, но мы, рядовые члены Братства, не знаем друг друга до тех пор, пока наши начальники не сочтут нужным — по политическим соображениям или в интересах общества — познакомить нас друг с другом. Поэтому с нас не берут никаких клятв при вступлении в Братства. Мы до конца дней наших носим на теле отличительный знак Братства, по которому нас можно опознать. Мы имеем право заниматься своими обычными делами, но должны сообщать о себе президенту и секретарю четыре раза в год, на тот случай, если мы понадобимся. Нас предупреждают, что если мы предадим Братство, то есть откроем его тайное существование или изменим ему, нас постигнет кара согласно его законам — смерть от руки неизвестного нам человека, может быть, посланного с другого конца земли, чтобы нанести сокрушительный удар, или смерть от руки ближайшего друга, тоже члена нашего Братства, чего мы можем не знать, несмотря на многолетнюю близость с ним. Иногда наказание откладывают на неопределенное время, иногда измену немедленно карают смертью. Наша первая обязанность — уметь ждать, вторая — уметь беспрекословно повиноваться, когда нам отдадут приказ. Некоторые из нас могут ни разу в жизни не понадобиться Братству. Некоторые из нас могут быть призваны к делу Братства в первый же день вступления в его члены. Я сам, маленький, живой, веселый человек, которого вы хорошо знаете, человек, неспособный и муху обидеть, в молодости в силу одного происшествия, столь ужасного, что я не расскажу вам о нем, вступил в Братство под влиянием минуты, как решился бы на самоубийство. До конца моих дней я обязан оставаться членом этой организации, какой бы я ее ни считал и что бы я о ней ни думал теперь, в спокойные минуты моей зрелости. Когда я был еще в Италии, я был избран в секретари Братства, и мне показали его членов, одного за другим.
Я начал понимать, к чему он клонит, я начал понимать, к какому выводу ведет его необычайная история. Он помолчал с минуту, пристально и вдумчиво глядя на меня, и, очевидно, понял, какая мысль промелькнула в моем мозгу.
— Вы уже сделали свои выводы, — сказал он, — я вижу это по выражению вашего лица. Не говорите мне ничего — не поверяйте мне ваших догадок. Я пойду для вас на последнюю жертву, а потом мы покончим с этим разговором, чтобы уже никогда к нему не возвращаться.
Он сделал мне знак молчать, встал, снял свой сюртук и засучил рукав рубашки на левой руке.
— Я обещал рассказать вам все, — прошептал он мне на ухо, не спуская глаз с двери. — Что бы ни произошло в дальнейшем, вы не сможете упрекнуть меня в том, что я от вас что-либо скрыл. Я сказал вам — Братство опознает своих членов по отличительному признаку, который они носят на себе всю жизнь. Взгляните!
Он поднял руку и показал мне выжженное клеймо над локтем, с внутренней стороны, — клеймо было темно-багрового цвета. Я не напишу, что именно оно изображало. Скажу только, что клеймо было круглой формы и таким небольшим, что шестипенсовая монета могла бы его закрыть.
— Человек с такой меткой, выжженной на этом месте, является членом нашего Братства, — сказал он, опуская рукав рубашки. — Человек, раз изменивший Братству, что рано или поздно становится известным начальникам, которые знают его в лицо, то есть президентам или секретарям, карается смертью. Если он изменил — он мертв. Никакие человеческие законы не спасут его. Помните о том, что увидели и услышали. Приходите к какому хотите заключению. Поступайте по вашему усмотрению, но, ради бога, не посвящайте в ваши планы меня! Я не хочу, я не должен ничего об этом знать. Дайте мне возможность остаться непричастным ко всему этому, освободите меня от ответственности, самая мысль о которой ужасает меня. Скажу под конец — даю вам честное слово джентльмена, клянусь вам, — если этот человек в опере узнал меня, значит, он так изменился или так замаскировался, что я не узнал его. Я ничего не знаю ни о нем, ни о его делах и поступках. Я не знаю, почему он находится в Англии. Я никогда не видел его, никогда не слышал его имени — до этой ночи. Мне нечего больше сказать. Оставьте меня теперь одного, Уолтер. Я потрясен всем происшедшим. Я содрогаюсь при мысли о своей собственной откровенности. Дайте мне время прийти в себя. Я постараюсь обрести душевное равновесие до следующей нашей встречи.
Он упал на стул и, отвернувшись от меня, закрыл лицо руками. Я шепотом сказал ему на прощание слова благодарности, которые он мог услышать или нет, по своему желанию, и тихо открыл дверь, чтобы не беспокоить его больше.
— Я сохраню память о сегодняшнем вечере в святая святых моего сердца, — сказал я ему. — Вы никогда не раскаетесь в том, что доверились мне. Можно мне прийти к вам завтра? Можно прийти рано, в девять часов утра?
— Да, Уолтер, — ответил он, ласково глядя на меня и говоря снова по-английски, очевидно желая как можно скорее вернуться к нашим прежним отношениям. — Приходите разделить мой скромный утренний завтрак до того, как я пойду на уроки.
— Спокойной ночи, Песка.
— Спокойной ночи, друг мой.
VI
Я вышел от него, убежденный, что после всего мною услышанного мне ничего другого не остается, как действовать немедленно, сразу же. Граф мог уехать ночью, и, если бы я стал дожидаться утра, последняя возможность восстановить Лору в правах была бы потеряна. Я посмотрел на часы. Было десять часов вечера.
Поспешность, с которой граф ушел из театра, говорила сама за себя. У меня не было ни тени сомнения в том, что сейчас он готовится к отъезду из Лондона. Клеймо Братства было на его руке, — я был так убежден в этом, как если бы своими собственными глазами видел этот знак у него на руке. Измена Братству была на его совести — ужас, охвативший его при виде Пески, служил этому неопровержимым доказательством.
Нетрудно было понять, почему Песка не узнал его. Такой человек, как граф, никогда не рискнул бы стать шпионом, не застраховав себя предварительно от всяких случайностей. Гладко выбритое лицо графа, на которое я показал профессору в опере, было, возможно, покрыто густой растительностью во времена молодости Пески. Темно-каштановые волосы графа были, несомненно, не его собственными — он носил парик. Имя его, безусловно, не было настоящим его именем. Время тоже могло прийти ему на помощь — таким непомерно тучным он стал, наверно, за последние годы. Вот почему Песка не узнал его, в то время как граф, со своей стороны, сразу узнал Песку благодаря необычайно малому росту и другим особенностям моего друга профессора, резко отличавшим его от других смертных.
Я уже упомянул, что не сомневался в причине, побудившей графа так поспешно уйти из театра. Мог ли я сомневаться, когда собственными глазами видел, как граф, считая, что, несмотря на его изменившуюся внешность, Песка опознал его, мгновенно почуял смертельную опасность! Если бы я мог встретиться с графом сегодня же ночью и сказать ему, что и мне известно, какая кара ему грозит, к какому результату это привело бы? Ясно — один из нас должен был стать хозяином положения, одному из нас пришлось бы просить пощады у другого. Прежде чем идти на этот риск, я был обязан ради своей жены осторожно продумать дальнейшие свои шаги и, елико возможно, уменьшить опасность, мне грозившую.