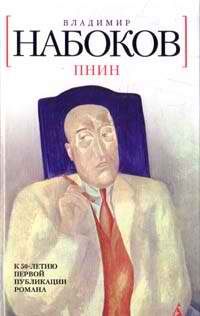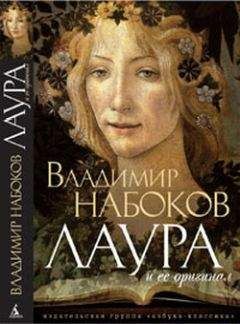2
На какое-то время он вернулся в Университетский Дом, но тогда и бурильщики мостовой тоже туда вернулись, да к тому же там объявились и другие раздражающие минусы. Теперь Пнин снимал спальню (розовые стены, белые воланы) во втором этаже клементсовского дома, и это был первый дом, который ему действительно нравился, и первая комната, в которой он прожил больше года. К этому времени он вытравил все следы прежней ее обитательницы, или так ему казалось, ибо он не замечал и никогда, должно быть, не заметил бы смешной рожицы, нацарапанной на стенке прямо за изголовьем кровати, и полустершихся карандашных отметок роста на дверном косяке, начиная с четырех футов в 1940-м году.
Вот уже больше недели весь дом был в распоряжении Пнина: Джоана Клементс отправилась аэропланом на Запад навестить замужнюю дочь, а спустя несколько дней, в самом начале своего весеннего курса философии, улетел туда и профессор Клементс, которого вызвали телеграммой.
Наш приятель не спеша съел брекфаст, состоявший большею частью из продуктов молока, которое продолжали поставлять, и, как обычно, в половине десятого собрался идти в университет.
Мне становится тепло на душе, когда я вспоминаю его российско-интеллигентский способ надевать пальто: его склоненная голова обнаруживала тогда свою идеальную лысину, а большой, как у Герцогини из Страны Чудес, подбородок крепко прижимался к перекрестку концов зеленого кашнэ, удерживая его на груди, покамест он, сильно дергая широкими плечами, норовил попасть в оба рукава сразу; рывок-другой, и вот пальто надето.
Он подхватил портфель, проверил его содержимое и вышел вон. Отойдя на расстояние, с которого мальчишки-разносчики швыряют с улицы на крыльцо газеты, он вдруг вспомнил, что университетская библиотека просила его срочно вернуть книгу, понадобившуюся другому читателю. Одно мгновение он боролся с собой: эта книга была еще нужна ему; но добросердый Пнин слишком сильно сочувствовал страстному призыву другого (неведомого) ученого, чтобы не вернуться за толстым и увесистым фолиантом. То был том 18-й — посвященный в основном Толстому — «Советского золотого фонда литературы, Москва — Ленинград, 1940 г.».
Органы, участвующие в производстве звуков английской речи, суть: гортань, нёбо, губы, язык (полишинель этой труппы) и, наконец, — и не в последнюю очередь — нижняя челюсть, на преувеличенное и несколько жевательное движение которой по преимуществу налегал Пнин, переводя в классе пассажи из русской грамматики или какое-нибудь стихотворение Пушкина. В то время как его русский язык был музыкою, его английский был какофонией. Ему с огромным трудом («дзификультси», на пнинском английском) давалась депалатализация, и он так и не научился избавляться от чрезмерной влажности русских «т» и «д» (перед гласными), которые он так забавно смягчал. «Hat» [шляпа] у него звучало взрывчато: «Я никогда не ношу шляпу, даже зимой», — и отличалось от обычного американского произношения «hot» [жарко], свойственного, например, вэйндельским жителям, только своею краткостью и оттого очень походило на немецкий глагол «hat» [имеет]. Все долгие «о» у него неизбежно превращались в краткие: его «no» [нет] было положительно итальянским, что еще усугублялось его манерой утраивать простое отрицание: «Вас подвезти, г-н Пнин? — Но-но-но, мне отсюда всего два шага». Он не владел (не подозревая, впрочем, об этом) долгим «у»: то, что ему удавалось произнести, когда надо было сказать «noon» [полдень], было рыхлым гласным немецкого «nun» [теперь] («По вторникам у меня нет классов пополудни» [ «ин афтернун»]. «Сегодня вторник»).
Вторник-то вторник, но какое сегодня число, спросим мы. День рождения Пнина, например, приходился на третье февраля по юлианскому календарю, по которому он родился в Петербурге в 1898-м году. Он теперь никогда не праздновал его, — отчасти потому, что после того, как он покинул Россию, этот день как-то незаметно проскальзывал в одежде грегорианского стиля (с опозданием на тринадцать — вернее, на двенадцать дней), отчасти же потому, что в продолжение академического года его жизнь главным образом следовала ритму «повтосрече — пясувос».
Вот он вывел дату на черной, затуманенной мелом доске [блэкборд], которую остроумно именовал «серой» [грэйборд]. Он еще ощущал в локтевом сгибе тяжесть Зол. Фонд Лит'а. Написанная на доске дата не имела никакого отношения к тому дню, который теперь был в Вэйнделе: «26 декабря 1829».
Он старательно ввинтил жирную белую точку и прибавил пониже: «3.03 пополудни. Санкт-Петербург».
Все это послушно переписали в свои тетрадки Франк Бакман, Роза Бальзамо, Питер Волков, Ирвинг Д. Герц, красавица и умница Мэрилин Гон, Франк Карроль, Джон Мид и Аллан Брэдбери Уолш.
Пнин снова уселся за стол, зыблясь безмолвным весельем: у него для них был приготовлен рассказ. Эта фраза в дурацкой русской грамматике, «Брожу ли я вдоль улиц шумных», была на самом деле началом одного знаменитого стихотворения. Хотя в этом начальном русском классе Пнину полагалось придерживаться грамматических упражнений («Мама, телефон! Брожу ли я вдоль улиц шумных. От Владивостока до Вашингтона 5000 миль»), он пользовался всяким удобным случаем, чтобы увести своих студентов на какую-нибудь литературную или историческую экскурсию.
На пространстве восьми четырехстопных четверостиший Пушкин описывает свою всегдашнюю несчастную привычку — где бы он ни был, чем бы ни был занят — предаваться размышлениям о смерти и кропотливо исследовать каждый прожитый день, пытаясь угадать в его тайном значении некую «грядущую годовщину»: день и месяц, которые где-нибудь, когда-нибудь появятся на его надгробном камне.
— «…And where will fate send me» — будущее несовершенное — «death», — вдохновенно декламировал Пнин, запрокинув голову и переводя с отважной дословностью — «in fight, in travel, or in waves? Or will the neighboring dale» — то же, что по-русски «долина», или, как бы мы теперь сказали — «valley» — «accept my refrigerated ashes», poussière, «cold dust», может быть, так точнее… — «And though it is indifferent to the insensible body…»
Пнин дошел до конца, а потом, театральным жестом указывая на доску кусочком мела, который он все еще держал в руке, обратил внимание слушателей на то, как тщательно отметил Пушкин день и даже минуту записи этого стихотворения.
— Но, — воскликнул Пнин с торжеством, — он умер в совсем, совсем другой день! Он умер ——
Спинка стула, на которую Пнин сильно опирался, издала зловещий треск, и класс разрядил вполне понятное напряжение громким молодым смехом.
(Когда-то, где-то — в Петербурге? в Праге? — один фигляр-музыкант вытянул рояльный вертящийся стул из-под другого, но тот как ни в чем не бывало продолжал шпарить свою рапсодию в сидячем, хоть и без сиденья, положении. Но где, где? В цирке Буша в Берлине!)
В перерыве между отпущенной начальной группой и уже начавшей просачиваться старшей Пнин оставался в классной комнате. Кабинет, где теперь на картотеке лежал Зол. Фонд Лит., полузавернутый в пнинский зеленый шарф, помещался на другом этаже, в конце гулкого коридора, по соседству с профессорской уборной. До 1950-го года (а теперь у нас 1953-й — как годы летят!) у него был на немецком факультете общий кабинет с Миллером, одним из младших преподавателей, а потом ему отдали в безраздельное пользование кабинет «Р», прежде служивший кладовой, но теперь заново отделанный. В продолжение весны он любовно пнинизировал его. Получил он его с двумя жалкими стульями, пробковой доской для объявлений, забытой уборщиком жестянкой мастики для пола и убогим письменным столом неопределенного дерева. Он ухитрился выпросить у администрации небольшую стальную картотеку с восхитительным запором. Под руководством Пнина молодой Миллер обнял и притащил пнинскую часть разборного книжного шкапа. У старой г-жи Мак-Кристал, в белом деревянном доме которой Пнин однажды не очень удачно прожил зиму (1949–1950), он купил за три доллара выцветший, некогда турецкий коврик. С помощью того же уборщика он привинтил сбоку стола чинилку для карандашей — доставляющий высокое удовлетворение глубокомысленный прибор, который во время работы издает свое «тикондерога-тикондерога»[19], поедая мягкую, с желтой каемкой, древесину, и вдруг срывается в какую-то беззвучно вращающуюся неземную пустоту, — что и всех нас неизбежно ожидает. Были у него и другие, еще более дерзкие планы, например завести кресло и торшер. Возвратившись в свой кабинет после летнего преподавания в Вашингтоне, Пнин обнаружил там жирного пса, спавшего на его коврике, а мебель его была сдвинута в темный угол комнаты, чтобы очистить место для великолепного письменного стола из нержавеющей стали и подстать ему вертящегося стула, на котором сидел, что-то строча и улыбаясь самому себе, недавно импортированный австрийский ученый, д-р Бодо фон Фальтернфельс; и с той поры, поскольку это касалось Пнина, кабинет «Р» утратил всю свою привлекательность.