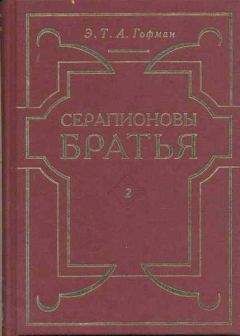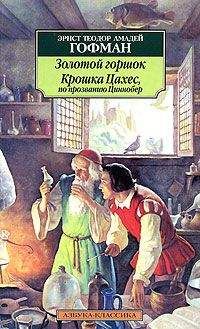Однажды Кардильяк вернулся домой в особенно веселом настроении духа. Он шутил с Мадлон, смотрел на меня с самым дружеским взглядом, выпил за столом бутылку хорошего вина, что позволял себе только в праздник, распевал песни, словом, казался счастливым и довольным вполне. После ухода Мадлон в свою комнату, я хотел пойти в мастерскую, но Кардильяк меня остановил, весело крикнув: «Сиди, юноша, сиди! Сегодня работы не будет; я хочу выпить вместе с тобой за здоровье достойнейшей и почтеннейшей особы в целом Париже!» Выпив с этими словами залпом полный стакан вина, Кардильяк продолжал: «Скажи-ка, Оливье, как нравится тебе этот стишок:
Un amant qui craint les voleurs
N'est point digne d'amour?»
И затем рассказал он мне все, что произошло между вами и королем в комнатах маркизы Ментенон, прибавив, что с этой минуты стал он уважать вас более всех на свете, и что злая звезда не заставила бы его поднять против вас руку, даже если бы вы носили драгоценнейший из сделанных им уборов. «Слушай, Оливье, — продолжил Кардильяк, — что я решил. Давно уже заказаны были мне ожерелье и браслеты для Генриетты Английской из моих собственных камней. Работа вышла удачнее всего, что я делал до сих пор, но мысль расстаться с этим сокровищем моего сердца терзала и мучила меня невыразимо. Скоро потом принцесса была злодейски убита, и бриллианты остались, таким образом, в моем владении. Теперь хочу я поднести их в знак моего уважения госпоже Скюдери от имени преследуемой шайки грабителей. Этим думаю я угодить ей и в то же время посмеяться над Дегре с его сыщиками. Тебе поручаю я отнести к ней убор». Едва Кардильяк назвал ваше имя, я почувствовал, что точно темная пелена спала с моих глаз и передо мной во всей живости и красоте восстали светлые годы моего детства. Луч радостной надежды, перед которым исчез мучивший меня тайный призрак, внезапно зажегся в моем сердце. Но Кардильяк по-своему понял выразившуюся на моем лице радость. «Мысль моя, — сказал он, — кажется, тебе понравилась; я чувствую, что внутренний голос, побуждающий меня к этому поступку, далеко не тот, который, точно свирепый зверь, толкает меня на убийство. Со мной иногда бывают странные вещи. Порой какой-то тайный ужас, приносящийся, чудится мне, из какого-то нездешнего далека, овладевает всем моим существом, и в эти минуты кажется мне, будто моей душе может быть поставлено в вину то, что злая моя звезда совершает моими руками все эти злодейства, пусть даже помимо моей воли. Однажды пребывая в таком настроении духа, решился я сделать бриллиантовую корону и пожертвовать ее для статуи Богоматери в церкви святого Евстахия. Но намерение это только удвоило чувство того страха, о котором я говорил, и невольно пришлось мне отказаться от моей мысли. Теперь же кажется мне, что, подарив бриллианты Скюдери, я тем принесу очистительную жертву на алтарь добродетели и благочестия, замолив и мои собственные грехи». Кардильяк был хорошо знаком с образом жизни, который вы ведете, и потому дал мне подробнейшие наставления, когда и как передать вам бриллианты, бережно положенные им в изящный ящик. Что до меня, то я был в полном восторге, восхищенный мыслью, что через преступного Кардильяка небо указывало мне путь к моему собственному избавлению из того ада, в котором я, закоренелый грешник, пресмыкался до сих пор. Я хотел во чтобы то ни стало видеть вас самих, хотя это и не входило в намерения Кардильяка. Мысль броситься к вашим ногам, назвать себя сыном Анны Брюссон, вашим воспитанником, во всем вам сознаться — овладела мной совершенно. Я знал, что из сочувствия к безгранично несчастной Мадлон, вы умолчали бы о преступлениях ее отца, открытие которых грозило бедой и ей; но в то же время был уверен, что утонченный ваш ум нашел бы средство пресечь дальнейшие злодейства Кардильяка, не предавая его в руки правосудия. Я не спрашивал себя, каким способом можно было это сделать, но довольно того, что верил твердо в то, что вы спасете меня и Мадлон! Верил, как верят в заступничество Богоматери. Вы знаете, что намерение мое в известную вам ночь не удалось, но я не потерял надежды быть счастливее в другой раз. Между тем заметил я, что Кардильяк стал внезапно опять молчалив и печален. Угрюмо бродил он по комнатам, ворчал себе под нос какие-то непонятные слова, беспрерывно размахивал руками, точно старался отстранить от себя невидимого врага, и вообще казалось, что ум его терзали недобрые мысли. Однажды, проведя в подобном настроении целое утро, сел он за свой рабочий стол, но вдруг вскочил, выглянул в окно и затем проворчал глухо и мрачно: «Очень бы мне хотелось, чтобы убор мой достался Генриетте Английской!» Слова эти наполнили мне душу невыразимым страхом. Я догадался, что злой дух обуял его снова и что дьявольский голос опять стал нашептывать ему мысли об убийстве. Я видел, что жизнь ваша в опасности, но знал также, что вы спасетесь, если Кардильяку удастся получить обратно свои бриллианты. Между тем опасность росла с каждой минутой, и времени терять было нельзя. Тогда счастливый случай сделал так, что я встретил вашу карету на Новом мосту. Протолкавшись через толпу, бросил я в окно кареты записку, в которой умолял возвратить убор Кардильяку. Вы этого не сделали в тот день, а на следующее утро страх мой удвоился, так как Кардильяк только и говорил, что о своих бриллиантах, которые, по его словам, снились ему целую ночь. Слова его могли относиться исключительно к посланному вам убору, и я был убежден, что кровавый замысел, вполне созревший в его голове, будет им исполнен в эту ночь. Я решился вас спасти хотя бы ценой жизни самого Кардильяка. Едва успел Кардильяк вечером прочесть по обыкновению свою молитву, я быстро спустился через окно во двор, прошел сквозь скрытую в стене дверь и притаился в тени дома. Вскоре увидел я Кардильяка, тихо кравшегося по улице, и незаметно пошел за ним. Он направился прямо к улице Сент-Оноре. Сердце во мне так и дрогнуло. Кардильяк между тем внезапно скрылся из моих глаз. Я решил забежать вперед и встать у дверей вашего дома, как вдруг на улице показался какой-то человек, весело распевавший, точь-в-точь как это было в ту ночь, когда случай сделал меня свидетелем преступления Кардильяка. Незнакомец, оказавшийся на этот раз каким-то молодым офицером, поравнялся со мной и прошел мимо, меня не заметив. Вдруг какая-то черная тень, выскочив из-за угла, бросилась прямо на него. Это был Кардильяк! В этот раз хотел я помешать убийству во что бы то ни стало и с громким криком бросился на место преступления, но, добежав, увидел, что на земле вместо офицера лежал раненный насмерть сам Кардильяк. Офицер бросил кинжал и, выхватив шпагу, приготовился защищаться, вероятно, сочтя меня за сообщника убийцы. Видя, однако, что я, не заботясь о нем, кинулся к телу, он оставил меня в покое и скрылся в темноте. Кардильяк еле дышал. Спрятав брошенный офицером кинжал, я взвалил раненого на плечи и с трудом, едва передвигая ноги под тяжелой ношей, успел притащить его через потайной ход в мастерскую. Остальное вам известно, и вы видите, что мое преступление состоит только в том, что я, не решаясь предать в руки правосудия отца моей Мадлон, умышленно умалчивал о его преступлениях. Сам я неповинен в пролитой крови, но повторяю, что никакая пытка не принудит меня обвинить перед судом Кардильяка. Я не хочу, чтобы злодейство отца упало черным пятном на голову невинной дочери, испортив всю ее будущую жизнь из-за того прошлого, в котором она неповинна! Не хочу, чтобы людская месть вырвала из земли мертвый труп и чтобы палач позорно сжег успокоившиеся уже кости! Пусть лучше та, которую я люблю, оплачет меня, как невинную жертву. Эту скорбь может еще унести время, но я буду знать, что вечный позор не покроет ее головы при воспоминании об адских злодействах отца.
Оливье замолчал. Неудержимый поток слез хлынул из его глаз, и, со стоном упав к ногам Скюдери, воскликнул он раздирающим душу голосом:
— Убеждены ли вы в моей невиновности?… О скажите! Скажите!.. Сообщите мне что-нибудь о Мадлон!
Скюдери позвала Мартиньер, и через минуту Мадлон лежала в объятиях Оливье.
— Теперь все хорошо! Ты здесь, и я спокойна! Я знала, что она нас спасет! — так восклицала Мадлон, и, казалось, сам Оливье, слушая ее, забыл о своей страшной участи, утопая в блаженстве и счастье. Оба наперебой рассказывали друг другу, как тяжело страдали они во время разлуки, и оба плакали от радости, что им так неожиданно удалось свидеться.
Если Скюдери не была до сих пор убеждена в невиновности Оливье, то теперь, видя счастье и восторг обоих молодых людей, забывших все свое горе и несчастья, убедилась она в ней окончательно. «Нет! — невольно вырвалось из ее груди. — Так блаженно забываться могут только чистые души!»
Светлое утро, занявшись, проникло в окна. Дегре тихо постучал в дверь комнаты и напомнил, что настало время Оливье отправляться назад, так как позднее можно возбудить неизбежное внимание толпы. Несчастным молодым людям пришлось расстаться вновь.