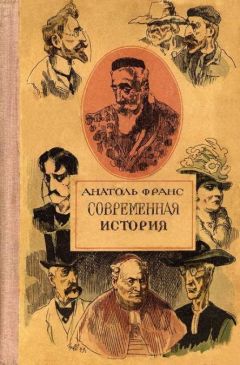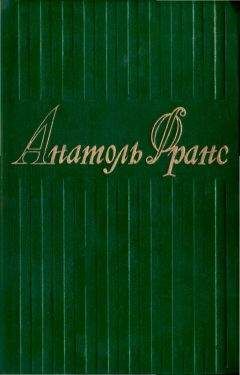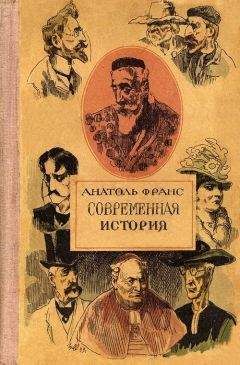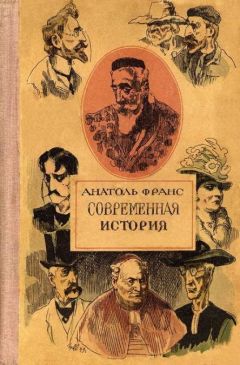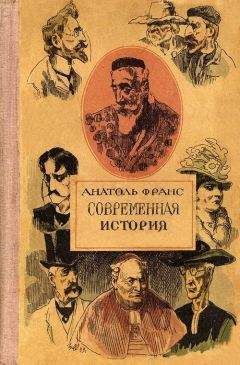Жозеф Лакрис был сдержан; к этому его обязывало положение конспиратора. Но, с другой стороны, он охотно подчеркивал свое могущество и влияние. А потому он извлек из кармана синий сафьяновый бумажник, который носил на груди у самого сердца, вынул оттуда письмо и, передав его г-же де Бонмон, сказал с улыбкой:
— Пусть делают обыск в моей квартире. Я все ношу с собой.
Госпожа де Бонмон взяла письмо, прочла его про себя и, порозовев от почтительного волнения, отдала его слегка дрожащей рукой Жозефу Лакрису. А когда это августейшее письмо, вернувшись в синий сафьяновый бумажник, заняло свое место на груди секретаря союза роялистской молодежи, баронесса Элизабет направила на эту грудь долгий, увлажненный слезами, пылающий взгляд. Юный Лакрис представился ей внезапно в сиянии героической красоты.
Сырость, и прохлада ночи понемногу пронизывали сотрапезников, засидевшихся под деревьями ресторана. Розовые огни, озарявшие цветы и бокалы, угасали один за другим на осиротевших столиках. По просьбе г-жи де Громанс и баронессы Жозеф Лакрис вторично достал из бумажника письмо короля и прочел приглушенным, но внятным голосом:
«Дорогой Жозеф!
Весьма рад патриотическому воодушевлению, которое наши друзья проявили под вашим влиянием. Я видел П. Д. Он настроен бодро.
Всегда к Вам благосклонный
Филипп».
Прочитав это письмо, Жозеф Лакрис вложил его обратно в синий сафьяновый бумажник, который покоился у него на груди под белой гвоздикой, украшавшей его петлицу.
Господин де Громанс пробормотал несколько одобрительных слов:
— Прекрасно! Так должен говорить глава, настоящий глава.
— Я того же мнения,— отозвался Жозеф Лакрис.— Истинная радость исполнять распоряжения такого повелителя.
— И какой сжатый язык,— продолжал г-н де Громанс.— Герцог Орлеанский словно унаследовал тайну эпистолярного стиля у графа Шамбора. Вам, сударыня, конечно, небезызвестно, что никто на свете не писал таких бесподобных писем, как граф Шамбор. Он мастерски владел пером. Совершенно бесспорно, что письма ему особенно удавались. Что-то напоминающее его импозантную манеру есть и в записке, которую нам только что прочитал господин Лакрис. Пожалуй, у герцога Орлеанского даже больше живости, больше юношеского пыла… Какая великолепная внешность у этого молодого принца! Настоящий сын Марса и истый француз! Он привлекает, он пленяет. Меня уверяли, что он почти популярен в предместьях,— ему там дали прозвище Солдатский Котелок.
— Да, массы все больше и больше склоняются на его сторону,— сказал Лакрис.— Булавки для галстуков с изображением короля, которые мы обильно раздаем, начинают проникать на заводы и в мастерские. У короля больше здравого смысла, чем принято думать. Мы приближаемся к цели.
Господин де Громанс ответил благожелательным и авторитетным тоном:
— При таком рвении, такой осторожности и преданности, как у вас, господин Лакрис, можно питать любые надежды. И я убежден, что вы добьетесь победы, не вызывая слишком много жертв. Ваши противники сами толпами придут к вам.
Причастность к партии «присоединившихся» не мешала г-ну Громансу желать восстановления монархии, но, и, не позволяла открыто одобрять те насильственные мероприятия, которые предлагал Жозеф Лакрис за десертом. Г-н де Громанс, посещавший балы префектуры и флиртовавший с г-жой Вормс-Клавлен, деликатно хранил молчание, когда молодой секретарь союза роялистской молодежи высказался за необходимость расправиться с жидовским префектом, но приличие отнюдь не препятствовало ему хвалить письмо принца и дать понять, что он готов на любые жертвы для спасения страны.
Господин де Термондр отличался не меньшим патриотизмом и с не меньшим удовольствием смаковал слог Филиппа. Но, завзятый собиратель редкостей и ярый любитель автографов, он прежде всего подумал о том, как бы ему заполучить у юного Лакриса королевское письмо — в обмен ли, даром ли, или, так сказать, заимообразно. Он раздобыл такими способами письма некоторых лиц, замешанных в процессе Дрейфуса, и составил интересное собрание. Теперь он подумывал о том, чтобы собрать коллекцию материалов о «Заговоре» и включить в нее в качестве наиболее ценного документа письмо принца. Он сознавал, что дело будет нелегким, и весь погрузился в обдумывание своего замысла.
— Приезжайте ко мне, господин Лакрис,— сказал он,— приезжайте ко мне в Нейи: я пробуду там еще несколько дней. Я покажу вам любопытные автографы, и мы еще поговорим об этом письме.
Госпожа де Громанс выслушала с должным вниманием записку короля. Она была светской дамой. Ей очень хорошо было известно, к чему обязывает этикет в отношении августейших особ. Она склонила голову при словах, начертанных Филиппом, как сделала бы реверанс, если бы имела честь присутствовать при церемониальном выходе короля, шествующего в обеденный зал. Но она не испытывала ни энтузиазма, ни благоговения. А кроме того, она доподлинно знала, что представляют собой подобные августейшие особы. Она видела на самом близком расстоянии одного из родичей герцога. Это случилось однажды днем в укромном доме близ Елисейских полей. Сказали друг другу все, что можно было сказать, но свидание не имело продолжения. Его высочество был корректен, однако не проявил широты натуры. Безусловно, она оценила оказанную ей честь, но не видела в этой чести ничего из ряда вон выходящего. Она уважала принцев; она любила их при случае, но не мечтала о них. И письмо не вызвало в ней никакого волнения. Что же касается юного Лакриса, то в ее симпатии к нему не было ничего пылкого или захватывающего. Она понимала, одобряла этого маленького русого молодого человека, немного щуплого, довольно милого, который не был богат и выбивался из сил, чтобы свести концы с концами и придать себе весу. Она знала из личного опыта, что нелегко вести широкую жизнь при небольших средствах. Оба они подвизались в высшем обществе. Это могло служить поводом для доброго согласия. Помочь друг другу при случае,— с удовольствием! Но и только.
— Поздравляю, господин Лакрис! Примите мои наилучшие пожелания,— сказала она.
Насколько чувства баронессы Элизабет были рыцарственнее и нежнее! Ласковая венка всем сердцем отдалась элегантному заговору, которому служила эмблемой белая гвоздика. Она к тому же так обожала цветы. Причастность к заговору дворян в пользу короля давала ей возможность войти и окунуться в общество родовитого французского дворянства, проникнуть в самые аристократические гостиные и вскоре, быть может, попасть ко двору. Она была растрогана, восхищена, смущена. Но нежность преобладала в ней над честолюбием; со всею искренностью своего легко распахивающегося сердца она уловила поэзию в письме принца. И она простодушно высказала то, что думала:
— Господин Лакрис, это письмо поэтично.
— Да, верно,— подтвердил Жозеф Лакрис.
И они обменялись долгим взглядом.
Ничего достопамятного не было произнесено больше в ту летнюю ночь за маленьким столиком ресторана, уставленным свечками и цветами.
Настал час разъезда. После того, как баронесса встала из-за стола и Жозеф Лакрис накинул на ее пышные плечи манто, она протянула руку г-ну де Термондру, который прощался со всеми. Он решил идти пешком в Нейи, где временно снимал квартиру.
— Это совсем близко отсюда, всего в пятистах шагах. Уверен, сударыня, что вы не знаете Нейи. Я открыл в Сен-Жаме остатки старинного парка с группой Лемуана в решетчатой беседке. Надо вам как-нибудь ее показать.
И его рослая, коренастая фигура тотчас же углубилась в аллею, залитую синим светом луны.
Баронесса предложила Громансам отвезти их домой в клубной карете, которую прислал за ней ее брат Вальштейн.
— Садитесь, мы вполне уместимся втроем.
Но Громансы были люди тактичные. Они крикнули фиакр, стоявший у решетки ресторана, и так быстро юркнули в коляску, что баронесса не успела их удержать. Она осталась одна с Жозефом Лакрисом перед открытой дверцей экипажа.
— Довезти вас, господин Лакрис?
— Боюсь вас стеснить.
— Нисколько. Где вас ссадить?
— На Площади Звезды.
Они покатили среди безмолвия ночи по голубой дороге, окаймленной зеленью деревьев… И неизбежное свершилось.
Когда карета остановилась, баронесса спросила тихим голосом, будто очнувшись от сна:
— Где мы?
— Увы, уже на площади,— ответил Жозеф Лакрис.
Он сошел, а баронесса поехала в одиночестве по проспекту Монсо в похолодевшей карете, держа помятую белую гвоздику в руках без перчаток, с полузакрытыми веками и полуоткрытыми губами. Она все еще трепетала от жгучих и нежных объятий, которые, приближая к ее груди королевское письмо, слили в ее душе сладость любви с гордостью славы. Она испытывала сознание, что это письмо приобщило ее интимное приключение к национальному величию и к многославной истории Франции.