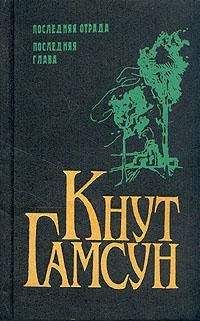В человеческую душу настежь распахнулась дверь, но что увидал я в ней? В душе этой девушки я не увидал никакой прелести, в ней было одно раздражение. Она изучала грамматику, но у нее не было внутреннего содержания, ее душа получила плохое питание. Будь она нормальной девушкой, она вышла бы замуж, она стала бы матерью, она стала бы благословением для себя самой. Но на что это похоже: цепляться за какой-то призрак радости только потому, что она не хочет, чтобы другие воспользовались этим. А ведь она такая статная и красивая!
Стоит собака и сторожит кость. Она ждет, пока не подойдет другая собака. Тогда вдруг на нее точно находит припадок обжорства: она хватает кость зубами и начинает из всех сил грызть ее. И это только потому, что подошла другая собака.
* * *
Казалось, будто не хватало этого маленького происшествия для того, чтобы к ночи привести меня в известное настроение. Я проснулся в темноте и вдруг почувствовал, что во мне сложилось то детское стихотворение, с которым я так давно возился. Вот эти четыре строфы о можжевеловом кустике:
Высоко, высоко на утесе крутом
Можжевельника куст приютился.
Из деревьев, лесных великанов, никто
Так высоко подняться не смеет.
В полпути до вершины, стоит лишь сосна,
Одиноко, печально, и зябнет.
Да повыше немного березка одна,
Точно насморк у ней, все чихает…
Но гляди, по утесу высоко ползет
Можжевельника кустик задорный,
Не боясь ничего, все вперед, да вперед.
Хоть он крошка, не более локтя.
И мерещится, будто бы он за собой
Тащит леса кортеж из долины.
Иль покажется вдруг, что не куст пред тобой,
А удалый возница нарядный.
* * *
А в долине зеленой зарницы растут,
Там Иванов торжественный праздник,
Веселятся там дети и песни ведут,
А не то и удалую пляску…
На вершине ж царит лишь хаос из камней,
Да живет можжевельник упрямый,
Да порою из мрачной пещеры своей
Хитрый тролль выползает и бродит…
Можжевельника ветер подхватит хохол
И вертит им и злобно играет,
И угрюм, неприютен, морозен и гол
Божий мир неожиданно станет…
Но как воздух здесь свеж! Так свободно, легко,
Как нигде, дышит грудь на вершине!
Ни пред кем не лежит так простор широко,
Как пред кустиком этим удалым…
* * *
Наступает и жаркое лето в горах,
Но исчезнет тотчас, как мгновенье,
И уж горы застыли в глубоких снегах,
Вновь царят там зима, непогода…
Можжевельник же, крошка, все храбро стоит,
Все хранит он зеленые иглы,
И на диво всему этот куст, как гранит,
Переносит все злые невзгоды…
Закалившись в борьбе, наш. герой, наконец,
Станет твердым, как кости и камень,
И красуется в ягодах куст-молодец
Оголенным деревьям на зависть.
И у каждой-то ягоды щечка крестом
Изукрашена… Ну, вот теперь
Я тебя познакомил с удалым кустом,
Не забудь же, каков можжевельник
* * *
И, наверное, наш можжевельник порой
Так поет про себя беззаботно:
«Ах, как все здесь прекрасно вокруг предо мной!
Как лазурное небо прозрачно!»
Иль другим можжевельником крикнет он вдруг
Так задорно и смело: «Не бойтесь
Хитрых троллей, что шмыгают всюду вокруг!
Нам не страшны их злые проказы!..»
Зимний вечер спускается уж над горой,
Пеленой одевает все сумрак,
В небесах, проливая на землю покой,
Загораются ясные звезды…
И усталость, сонливость владеют кустом;
Для себя самого незаметно,
Забывается крепким и сладким он сном…
Сладко спи же, дитя! Доброй ночи![3]
Я встал и написал начисто эти стихи. Потом я послал их одной девочке, с которой я много бродил по лугам и полям. И эта девочка сейчас же прочла мои стихи.
Утром я прочитал эти стихи девочкам фру Бреде; они стояли передо мной и слушали, и напоминали мне собою два синих колокольчика. Когда я кончил читать, они вырвали бумагу у меня из рук и бросились с ней к матери. Ведь они так любили свою мать. А мать в свою очередь любила их. И стоило послушать, какую возню они поднимали по вечерам, ложась спать.
Ах, что за мужественная женщина была фру Бреде! Она могла бы наделать много глупостей, но она держала себя в границах. Зато это было оценено. Кем? Мужем? Муж должен был бы брать свою жену с собой в Исландию. В противном же случае ему остается только мириться с последствиями того, что жена его бесконечно долго остается дома одна.
Фрекен Торсен не заговаривает больше о своем отъезде. Но нельзя сказать, чтобы ей доставляло видимое удовольствие также и пребывание в санатории. Впрочем, фрекен Торсен слишком беспокойна и слишком красива для того, чтобы вообще чем-нибудь быть довольной.
Разумеется, она простудилась в тот вечер, когда гуляла с Солемом в лесу, так что на другой день она пролежала с головной болью. Но когда она встала, то чувствовала себя, как всегда.
Как всегда? Но почему же у фрекен Торсен на шее появились синяки, словно ее кто-то пытался душить?
Она больше не поворачивала головы в сторону Солема и вообще делала вид, будто его и на свете не существует. Как знать, быть может, в лесу произошла маленькая схватка, последствием которой явились синяки на шее; после этого она и поссорилась с Солемом. Вполне правдоподобно, что она просто хотела только испытать некоторое волнение, убедиться в победе; однако Солем не понял этого и пришел в ярость. Не так ли это было?
Да, ясно, что Солема одурачили. Он не отличался особенным умом и был откровенен; он даже сделал кое-какие намеки и сказал между прочим: - «Да, эта фрекен Торсен хоть куда. Готов биться об заклад, что в ней силы столько же, сколько в любом мужчине»,- и он засмеялся, но улыбка его была деланная. Он смотрел на нее наглым взором, этот взор преследовал ее повсюду. Чтобы сделать вид, будто ему все нипочем, он принимался петь песни бродяг, когда она бывала где-нибудь поблизости. Но напрасно он трудился, фрекен Торсен была глуха к его песням.
И вот после всего этого стало казаться, будто фрекен осталась у нас как бы назло кому-то. Конечно, мы не представляли собой особенного интереса для нее, как и раньше, но она сблизилась с адвокатом и часто подсаживалась к нему в гостиной, где он чертил план дома. Такова уж бестолковая праздная жизнь в горных пансионах.
* * *
Да, так шли дни, один за другим; нового для меня ничего не случилось, и я начал скучать. Время от времени к нам заходил какой-нибудь путешественник, собирающийся перейти через горы, но, как говорили, это совсем не то, что в другие годы, когда туристы приходили целыми караванами. И, по-видимому, в этом отношении здесь не будет лучше до тех пор, пока к нашей санатории не проведут новой дороги и не устроят автомобильного движения.
До сих пор мне не пришлось еще упомянуть о том, что соседняя долина носит название Стурдален, а наша называется только просто Рейса, по реке того же названия, и все местечко Рейса представляет собою лишь маленький поселок. Таким образом все преимущества выпадают на долю Стурдалена, да и имя это уже само по себе очень громкое. Однако Поль, наш хозяин, называет соседнюю долину Веследален[4], потому что там живет противный, скаредный народ,- так уверяет Поль.
Ах, бедный Поль. Он вернулся из села, куда ходил по делам, без всякой надежды, и по этому случаю он был пьян, как стелька. Целые сутки он провалялся в своей каморке, и никому не показывался на глаза. Когда он, наконец, снова появился на людях, то вид у него был очень самоуверенный, и он старался внушить, будто наделал больших дел во время своего пребывания в селе: теперь, наверное, у него будут автомобили, об этом нечего уже больше беспокоиться. А после обеда, когда он снова успел напиться, им овладела мания величия другого рода: что это за жалкие людишки там в селе, ведь они ровно ничего не смыслят в делах, они не хотят принять участия в проведении дороги к его усадьбе. Он один соображал хоть что-нибудь. Разве не было бы это настоящим благодеянием для всего прихода, если бы провести этот маленький кусочек дороги? Ведь тогда на всю долину посыпался бы дождь из шиллингов от массы туристов. Но разве эти люди понимают хоть что-нибудь.
- Однако рано или поздно, но сюда придется провести дорогу,- сказал адвокат.
- Ну, еще бы,- ответил Поль решительно.
И он опять ушел в свою каморку и завалился спать.
Но вот в один прекрасный день к нам пришла небольшая партия туристов, которые сами тащили свой багаж по солнцепеку, и они стали просить о помощи. Солем сейчас же предоставил свою особу в их распоряжение, но ему не под силу было тащить все мешки и чемоданы, а Поль валялся у себя в каморке. Этой ночью я опять видел, как Поль уходил в лес, и при этом он громко разговаривал и размахивал руками, как будто он был не один.