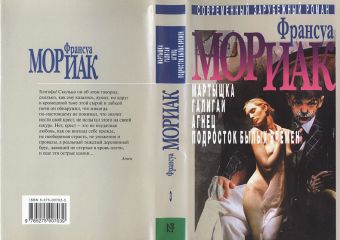— Почему у тебя нет друзей? Почему ты отказываешься от приглашений или подпираешь стену во время танцев?
Я не танцую потому же, почему не охочусь. Это все одно и то же...
Нет, совсем не одно и то же. То, что я сейчас расскажу, уже пережитое, а не история в ее становлении, хотя история все еще продолжается Донзак сумеет уловить разницу между истолкованным и обработанным мною документом и тем, что изо дня в день, из страницы в страницу принимает облик неизбежной судьбы. Донзак сумеет истолковать ложь, которой оборачиваются мои умолчания, и, без моего ведома, превратит ее в правду, ту правду, которую я сам хотел бы вырвать из себя, которой я домогаюсь с пугающей меня страстью, пугающей потому, что речь идет о маме, потому что ее я постепенно разоблачаю, и по мере того, как раскрывается ее истинный образ, мне становится страшно.
Но теперь я больше не один. Я больше ей не подвластен. Явился некто. Некто. Все началось в книжной лавке Барда, в Пассаже, соединяющем улицу Сент-Катрин с площадью Комеди. Я не сразу набрел на эту мрачную пещеру, заваленную книгами. Моим книготорговцем был Фере, на Интендантском бульваре. У Барда издания «Меркюр де Франс» занимали лучшее место. Литература здесь была в чести. На витрине лежали книги современных поэтов.
Я заходил сюда по пути из университета почти каждый день, после того первого дня, когда, просматривая новую книгу — «Имморалист», так погрузился в чтение, что вздрогнул от неожиданности, услыхав у себя над ухом женский голос.
— Даже если у вас нет лишних денег, советую вам ее купить. Это первое издание, а первые издания Андре Жида...
Я поднял глаза и увидел в полутьме этой пещеры мадемуазель Мари, которая продает книги и вообще хозяйничает в магазине (сам Бард сидит за кассой, а Балеж, горбатый приказчик, делает всю черную работу). Мадемуазель Мари в своем темном халате старается быть незаметной, но только не для тех, на ком остановит она взгляд, как, например, в тот первый день остановила на мне. И какой взгляд! Нежный, и вместе с тем насмешливый, и пугающе-проницательный. Ее привлекло и тронуло во мне, как всех, кто меня любит, именно то, что отталкивало всех прочих. Я, однако, обманул ее, сам того не желая. Я так люблю книги и так мало их покупаю, я так долго колеблюсь, прежде чем решиться на покупку, — одним словом, я настолько не способен израсходовать хотя бы франк и к тому же так плохо одеваюсь — всегда в одном и том же галстуке тесемочкой, — что она приняла меня за бедного студента. Потом я узнал, что ее все же удивило мое пальто, хотя изрядно поношенное, но явно сшитое на заказ, и дорогой кожаный портфель с инициалами. Но трудно было предположить, что у меня есть карманные деньги. Она решила, что я сын каких-нибудь сельских жителей, разорившихся или скупых, и отложила для меня несколько первых изданий.
— Заплатите в следующем месяце, — сказала она.
Я не стал разубеждать ее, и, конечно, не из дурных побуждений. Может быть, это был стыд? Нет, скорее, счастье чувствовать себя любимым за самого себя, знать, что могу понравиться такой замечательной девушке, и не подозревающей во мне наследника Мальтаверна. В редкие вечера, когда мама посылает меня взглянуть, как танцуют другие, я отлично знаю, что все смотрят на меня одинаковым взглядом — невидимый ярлычок пришпилен к моему смокингу: тысячи гектаров ланд, недвижимое имущество. Одна и та же искательная улыбка у всех, одни и те же потуги поговорить «о том, что считается интересным». А представление этих дурочек об «интеллектуале»!.. Нет, даже думать об этом не хочется. Достаточно, если Донзак поймет, каким неожиданным счастьем с первого же дня стала эта девушка, с такой любовью смотревшая на бедного студента, за которого она меня принимала. Мое нежелание показываться с ней вместе на улице — это я узнал впоследствии — она объяснила боязнью скомпрометировать ее, таким ангелочком я ей показался; потом мы немало смеялись над этим. Но истинной причины я ей не открыл, да и сам не очень был в ней уверен. Дело было, конечно, и в том, что стоит нам выйти из темного грота книжной лавки, как миф о бедном студенте рассеется, но главное было то, что я не отделял Мари от книжной лавки, с которой сам соединил ее, так же как не отделял мадемуазель Мартино от ее скакуна.
Я был защищен от нее и вместе с тем мог наслаждаться ею, как будто видеть ее в волшебном полумраке книжной лавки уже само по себе было для меня наслаждением. Тут не вставала передо мной ни одна из тех гнусных проблем внешнего мира, которые я, разумеется, не в силах был разрешить.
Такое положение могло бы длиться вечно, хотя бы потому, что Мари сама его приняла; оно отвечало тому образу, который она создала в сердце своем, тому моему свойству, которое она называла noli me tangere[17]. Если бы не случайная встреча... Но я не верю в случай, а совпадения, пожалуй, доказывают, что в нашей жизни и в самом деле все предопределено.
Хотя душой книготорговли Барда была Мари, хозяин и Балеж не одобряли того, что она разрешает многим клиентам, а я был в числе постоянных, рыться в книгах, которых они не покупали. Благодаря ей книжная лавка приобрела облик описанной в романе Анатоля Франса «Под вязами» книготорговли Пайо, где господин Бержере каждый день встречался со своими друзьями. Мари рассказала, что ей пришлось особенно горячо защищать меня и еще одного молодого учителя из Таланского лицея, который проводит у Барда все вечера по четвергам, в единственный свой свободный день. Как раз в этот день я никогда не появлялся у Барда: по четвергам книжная лавка была набита битком.
— Он такой же нелюдим, как вы, он ни с кем не знаком...
— Но он знаком с вами, — возразил я не без досады.
Моя досада вызвала у нее улыбку, она решила, что я ревную. Было ли это так? Во всяком случае, я почувствовал ревность, едва лишь напустил на себя страдальческий вид: я полагал, что влюбляются механически, так же как, согласно Паскалю, становятся истинно верующими.
Меня беспокоил возраст неизвестного соперника. Он был на несколько лет старше меня Он внушал ей жалость полным своим одиночеством и безнадежной горечью, которая проскальзывала в его речах, казалось, в юности он пережил какое-то непоправимое несчастье. Она говорила о нем с сочувствием, возраставшим по мере того, как возрастало мое огорчение, на сей раз непритворное; я действительно был огорчен, и вскоре Мари не выдержала Мы были с ней одни, скрытые от чужих глаз полкой с подержанными книгами. Впервые она взяла мою руку и удержала ее в своей.
— Подумать только, — сказала она, — я даже не знаю, как вас зовут. Я знаю лишь первую букву, я видела инициалы на вашем портфеле. Какие же имена начинаются на А?.. Вас ведь зовут не Артур, не Адольф? А может, Август? Или Августин?
Я почти коснулся губами ее маленького ушка. «Ален...» — прошептал я, словно речь шла о величайшей тайне, и она повторила: «Ален», будто боялась забыть. Я спросил:
— А как вы меня называли, когда думали обо мне?
— Никак не называла. В те дни, когда вы не приходили, я думала: «Сегодня, ангел не пришел...»
— Ах, — вздохнул я, — и вы тоже?
Я вспомнил те сумерки в Мальтаверне, когда Симон сказал мне: «Вы — ангел». Да, я подумал о нем именно в тот момент, когда он вот-вот должен был снова возникнуть в моей жизни! Мне самому это кажется настолько странным, что я подозреваю, уж не придумал ли я, сам того не сознавая, эту историю и так складно ее построил? Но нет, все произошло именно так. Помню, я бросился к выходу, даже не попрощавшись, а Мари шла за мной, повторяя вполголоса:
— Что с вами? Что с вами? Я не хотела вас обидеть...
— Девушки не любят ангелоподобных юношей, — сказал я. — (Мы стояли с ней рядом, у порога. Ни одного покупателя в лавке уже не было.) — Впрочем, они правы
— Потому что есть злые ангелы? — спросила Мари. Она деланно засмеялась, пытаясь рассеять возникшее между нами облачко.
— Нет, злого ангела они бы любили. Он причинил бы им страдания...
— Ну, смотря какие девушки, — сказала она. — Мне никогда не нравились грубияны. Я всегда их боялась.
— А я кажусь вам безопасным.
— Вы обижаетесь на каждое мое слово.
— А этого учителишки из Таланса, который приходит по четвергам, вы не боитесь?
— Ах, так это из-за него вы терзаетесь! Бедняга он, я изо всех сил стараюсь, но, кажется, безуспешно, скрыть от него свое отвращение. Я даже заставляю себя брать его за руку, мне даже удается удержать ее на несколько секунд в своей. Вы не поверите, но у него по шесть пальцев на каждой руке. Если б вы знали, как противно прикасаться к этому мягкому отростку, к этому хрящику, бр-р...
Я прислонился к витрине. Я спросил:
— Симон? Он в Бордо?
— Вы его знаете? Откуда вы его знаете?
— А известно ли вам, что и на ногах у него тоже по лишнему пальцу? Ну что ж, Мари, в четверг скажите ему, что одного из ваших клиентов зовут Ален и что он ангел, тогда вы узнаете все обо мне, о моей матери, о моем детстве, откуда я родом — Симон Дюбер тоже из тех мест. Сам я сегодня не стану говорить с вами о нем, я не могу это сделать, не посвящая вас во все подробности моей несчастной жизни, а это мне не под силу. Пусть уж он расчистит дорогу... А я только дополню его показания. После того как он все расскажет, мне легче будет ввести вас в ту историю, которая, в общем-то, никому не интересна.
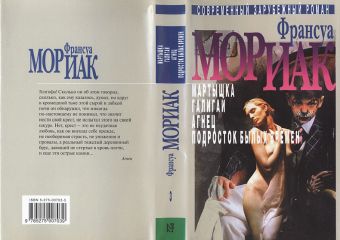
![Франсуа Мориак - Том 3 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/135894/135894.jpg)