— Начать с того, что это мой дом. Дом этот принадлежит моему отцу. Я имею право принимать здесь кого хочу, а всех остальных гнать в три шеи. Я не хочу, чтобы сюда приходили Мендёры, не хочу, а тем более не хочу, чтобы сюда приходила твоя грязная шлюха. Я здесь у себя, чёрт побери, у себя дома.
Это повторенное несколько раз утверждение, что она находится у себя дома, успокоило Белетту. Произнесённые ею простые слова вдруг вернули её к той, прошлой жизни в семье: маленькая колченогая печка, подпёртая бревном, дым, пар, запахи, две замызганные, приставленные одна к другой кровати, та, на которой спала она сама с двумя младшими братьями, и другая, ещё более грязная, на которой спали родители, деля её со своей двухлетней дочкой; отбросы на полу, пьяный отец, драки, ругань, повсюду следы вина и жёваного табака, подзатыльники, нотации, палка, в который уже раз беременная мать, картонка в окне вместо одного из стёкол, отсутствие белья, выклянченная где придётся одежда. Эта возникшая перед ней картина нищеты заставила её устыдиться собственной ярости и грубых слов, которые уже сами по себе были возвратом к прошлой жизни. И в то же мгновение у неё мелькнула мысль, что любовь всё-таки не столь важна, как условия, в которых ты живёшь. Расстроенная, она повернулась спиной к этим горьким воспоминаниям и, глядя на поле перед домом, прислонилась к дверному косяку. Арсен смотрел на неё и улыбался. Он знал по себе, какой может быть детская любовь, но его жизненного опыта оказалось недостаточно, чтобы понять, какие чувства владели Белеттой. Он не видел в них ничего другого, кроме проявления требовательной, ревнивой, не желающей ни с кем делиться дружбы.
Белетта, легко одетая и всё ещё находящаяся во власти своих эмоций, нервно вздрогнула. Арсен заметил это и сказал, трогая тонкую ткань её чёрного платья:
— Ты можешь простудиться. Тебе надо было надеть пальто. Возьми-ка мой пиджак, накинь его и быстро согреешься.
Он расстегнул пиджак, но она остановила его движением руки и, опять почувствовав приступ злости, сказала:
— Оставь меня в покое. Я не хочу ничего, слышишь? Ничего, ничего.
Она искала какое-нибудь обидное слово, но слёзы не дали ей говорить. Арсен оторвал её от земли, прижал к груди маленькое тело, сотрясаемое рыданиями, и стал убаюкивать её. Он говорил с ней нежным голосом, как с малышом, и рыдания прекратились.
— А теперь мы поедем домой. Ты сядешь на раму моего велосипеда, и в путь. Посмотришь, как на спуске около Жюде на нас вытаращат глаза. Когда увидят, как мы промчимся и наши две головы рядом, подумают, что это Фарамина.
Две девочки, дочки учителя, играли одни в школьном дворе. Их игра, состоявшая в том, чтобы бегать от одного дерева к другому, была подражанием игре в четыре угла, которую они из-за своего малого возраста пока что не понимали. Фостен Вуатюрье, мэр коммуны, остановился на минуту, чтобы благосклонным взором посмотреть на их забавы; во дворе какой-нибудь фермы, если бы девочки играли, он даже не обратил бы на них внимания, но среди его муниципальных обязанностей те, которые касались школы, льстили самолюбию мэра больше чем все остальные, и ему достаточно было войти в этот двор для детских игр на переменках, чтобы ощутить в себе душу просвещённого благодетеля. Меньшую из двух девочек, ту, которой было три года, привлёк блеск его жёлтых краг, и она подошла, чтобы их погладить. От неожиданности и какого-то смутного беспокойства Вуатюрье довольно резко отстранил её, и ребёнок заплакал. Энбло, учитель, работавший в этот момент в своём саду, перегнулся через изгородь.
— Я смотрю, твои малышки что-то не поделили, — сказал Вуатюрье. — В этом возрасте ссоры между сёстрами не такая уж редкость.
— Ничего, в конце концов всё всегда улаживается. Вы пришли ко мне, господин Вуатюрье?
— Именно. Я пришёл поговорить с вами об одном деле.
Энбло, без пиджака, в одной рубашке с засученными рукавами, вышел к мэру во двор. Вуатюрье поинтересовался самочувствием его жены, которая работала учительницей и вела класс девочек.
— Благодарю вас. Когда стоит такое хорошее лето, разве можно чувствовать себя плохо?
Вуатюрье посмотрел на Энбло с лёгкой завистью. Молодой учитель ответил со свойственной его возрасту непринуждённостью, ему явно не хватало степенности. Энбло случалось по нескольку раз в день ловить себя на мысли, какой он счастливый человек. Он любил детей, любил свою профессию, любил садоводство, рыбную ловлю, республику, и всё это он имел. Радость жизни освещала его лицо с утра до вечера. Нередко у него даже возникало желание поблагодарить своего творца, но он воздерживался от этого, чтобы не чувствовать себя виноватым перед лицом своих инспекторов. Вуатюрье немного сердился на Энбло за это выпавшее ему счастье, которое казалось мэру незаслуженным. И хотя Вуатюрье с уважением относился к коммунальной школе, ему никак не удавалось воспринимать всерьёз профессию учителя: он полагал, что эти люди слишком уж легко зарабатывают деньги. Впрочем, он относился бы к Энбло снисходительнее, если бы тот был горожанином, а не крестьянским сыном.
— Да сейчас-то, — заметил он, — и работа, наверное, не очень вас утомляет.
Вуатюрье намекал на то, что многие ученики пропускают занятия, чтобы помогать на сенокосе или пасти коров.
— Я не в состоянии сколько-нибудь серьёзно повлиять на родителей без вашего вмешательства, — ответил Энбло, — но я в вашем распоряжении.
Мэр, думавший о своих перевыборах, как раз не испытывал никакого желания ссориться с родителями, напоминая им об их обязанностях. И он пожалел, что затеял этот разговор, ступив на столь скользкий путь.
— Мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз, — сказал он. — Вообще-то у вас в классе, наверное, не так уж и много учеников, пропускающих занятия.
— В моём классе много. Почти три четверти. У жены дела обстоят гораздо лучше. Девочки ходят более регулярно, чем ребята, скорее всего потому, что от них не так много проку в поле. А поскольку их и вообще больше, чем ребят, то в целом класс остаётся достаточно многочисленным.
— Я всё ещё не сказал вам, зачем пришёл, — прервал его Вуатюрье. — Представьте себе, у меня неприятности. Вы, может, слышали что-нибудь о Вуивре?
— Как и все остальные. Когда я был маленьким, мать часто рассказывала мне эту историю. Кстати, она в неё нисколько не верила.
— Сегодня это, скорее, уже не история. Вот уже неделю по всей округе ходят слухи, что Вуивра прогуливается по лесу и даже по полям.
Конец июня казался учителю настолько прекрасным, что даже его трезвый ум не смог бы безоговорочно отвергнуть возможность появления посреди этой благодати какой-нибудь нимфы или языческой богини, но, боясь конфуза, он предпочёл отнестись к сказанному с иронией.
— Вы, конечно, понимаете, что я тоже не верю во всю эту дребедень, — сказал Вуатюрье. — И тем не менее есть немало людей, которые видели её. Я в данном случае не говорю о ком-нибудь вроде Реквиема, нет, речь идёт о людях серьёзных. Скажем, вот Жозеф Бонвало. Жозефа-то я знаю как облупленного. Мы с ним ещё жребий вместе тянули, кому идти в армию. Жозеф не из тех, кто станет шутить или молоть какую-нибудь чепуху. И труженик, и вовсе не любитель выпить, даже тогда, когда это ничего ему не стоит. В общем, что там говорить, настоящий мужчина. Так вот он, Жозеф, видел Вуивру. Видел её на пруду Шене, идущей в трёх шагах за своей гадюкой. Пришла на берег, разделась, это он тоже видел, а рубин свой положила на своё белое платье. Я повторяю вам только то, что он мне рассказал.
— Мне бы не хотелось подвергать сомнению слова Бонвало, но всё-таки…
— И Ноэль Мийон, зять Жукье. И Жан Меришо со своей сестрой. Они тоже видели её. Они её видели.
Учитель стал говорить о феномене галлюцинации и самовнушения, но мэр слушал его, с трудом сдерживая нетерпение, и резко возражал, словно ему нужно было во что бы ни стало поддержать свидетельства людей его коммуны. Вуатюрье даже раскраснелся, приведя в их поддержку несколько удачных доводов. Какое-то время он пытался крепиться, но потом, не выдержав, взорвался:
— Но чёрт побери! Я сам, и это я вам говорю, я видел её, Вуивру. Причём всего лишь час назад я её видел. Спускаюсь по своим заливным лугам к реке, подхожу к броду, брод вы знаете, как раз чуть повыше дощатого моста. Подхожу, и что же я вижу? Вуивра лежит плашмя на животе на куче тростника и принимает с голой задницей солнечную ванну, а платье лежит рядышком и рубин там же, вот.
Облегчив душу, Вуатюрье успокоился, уже слегка жалея о том, что открылся. Учитель, не сомневаясь в том, что мэр находится в полном рассудке, был склонен верить в его искренность. Вуатюрье, конечно же, не был человеком, способным выдумать историю про привидения, да ещё с такими деталями, как тростник и праздно выставленные ягодицы, а если предположить, что он сошёл с ума, то ему рисовались бы совсем другие картины. Оба были смущены и стояли в раздумье.
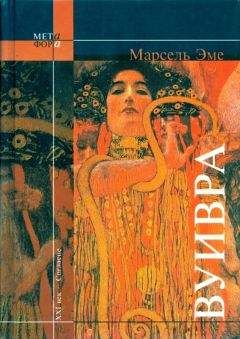

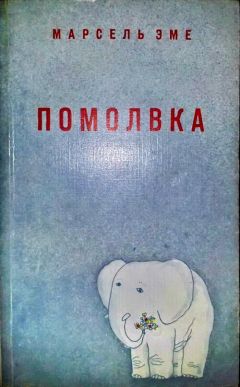
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

