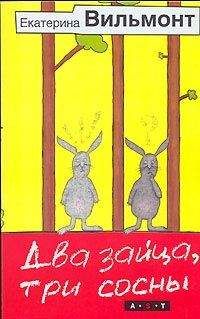— Лучше Фильке пойду подсоблю, — сказал он, надевая картуз и затягивая шарф.
Когда Ваньчок вышел, Карев поднял на Лимпиаду глаза.
— Идешь? — спросил глухо он. — Я ухожу послезавтра. Пойдем. Жалеть нечего.
Лимпиада свесила голову и тихо, безжизненно прошептала:
— Иди, я не пойду.
— Прощай. Больше, я думаю, говорить тебе нечего.
Лимпиада загородила ему дорогу и повисла, схватившись за него, на руках:
— Не уходи, милый Костя, — ради всего святого, пожалей меня.
— Нет, я не могу оставаться, — сказал Карев и отдернул ее руку.
На пороге показался Филипп.
— Ты что ж, совсем уходишь?
— Да, совсем, проститься зайду. Не поминайте лихом, а если сделал чего плохого, то прошу прощенья…
Когда Карев ушел, Лимпиада проводила Филиппа к Ваньчку, а сама побежала на мельницу.
Хата была заперта, и на крыльце на скамейке лежала пустая пороховница.
«Куда же ушел?» — подумала она и повернула обратно. Вечерело. Оступилась в колею и вдруг, задрожав, почувствовала, что под сердцем зашевелился ребенок.
— Ох! — вскрикнула тихо и глухо, побежала к дому, щеки горели, платок соскочил на плечи, но она бежала и ничего не замечала.
В открытых глазах застыл ужас, губы подергивались как бы от боли.
Прибежала и, запыхавшись, села у окна.
«Зачем же я бежала? Господи, откуда эта напасть? Что делать мне… что делать?..»
Думы вспыхивали пламенем и, как разбившаяся на плесе волна, замирали.
«Вытравить, избавиться», — мелькнула мысль. Она поспешно подбежала к печурке.
«Преступница», — шептал какой-то голос и колол, как шилом, в голову.
«Господи, — упала она перед иконой, — научи!»
На брусе — для мора тараканов, в синей бумажке, — в глаза ей бросилась спорынья.
С лихорадочной дрожью наскребла спичек и смешала с спорыньей.
Когда цедила из самовара воду, в ней была какая-то неведомая ей дотоле решимость.
Без страха поднесла к губам запенившуюся влагу и выпила.
Чашка, разбившись, зазвенела осколками, и, свалившись на пол плашмя, Лимпиада забилась, как в судороге.
Волосы, сбившись тонкими прядями, рассыпались по полу и окропились бившей клочьями с губ пеной. Под окном ворковали голуби, и затихший бор шептался о чем-то зловещем.
Лицо ее было как мел, и на нем отражалась лесная зеленая дремь.
Филипп не поехал к Ваньчку, он встретил чухлинского старосту и пошел оглядывать намеднишнюю вырубку.
Щепа пахла ладаном, на голых корнях в вырубях сверкала вода.
— Тут надо бы примерить, — сказал староста. — Сбегай-ка до дому за рулеткой.
Филипп сломил ветку калинника и побег к сторожке.
Чукан, свернувшись в кольцо у ворот, хотел схватить его за ногу.
В голову ударило мертвечиной, на полу в луже крови валялась Лимпиада — и около нее разбитая чашка.
— Отравилась!.. — крикнул, как журавль перед смертью, и побежал к колодцу за холодной водой.
Поливал ей на грудь, пальцем разжимал стиснутые зубы.
Холодел.
Склонившись на колени, закрылся руками и заголосил по-бабьему.
— Ой, не ходила бы девка до мельника, не развивала бы свою кудрявую косу, не выскакивала бы в одной сорочке по ночам, не теряла бы свою девичью честь.
Ползал, подымал осколки чашки и подносил к носу.
— Ох ты, бесталанная головушка, при тебе спорынья в поле вызрела, и на погибель ты свою ее пожинала.
Ваньчок трепал за ухо своего подпаска.
— Ты опять, негодяй, потерял ярку. Ищи, харя твоя поганая, до смерти захлыщу.
— Я, дя-аденька, ни при чем, — плакал Юшка. — Вот те Христос, не виноват…
— Я те, сволочь, покажу, как отказываться. Ишь сопляк какой подхалимный!
Возбужденный опять неудачей, напился к вечеру пьян и поехал опять сватать Лимпиаду.
Около околицы ему послышалось, что Филипп поет песню.
Он слез с телеги и, качаясь, выгаркивал осипло «Веревочку»:
Эх, да как на этой на веревочке
Жизнь покончит молодец…
С концом песни ввалился в избу и остолбенел.
— Это он! — крикнул с брызгами пены у рта. — Это он… Он яр поджег, дымом задвашил…
Красные глаза увидели прислоненную к запечью берданку.
Голова кружилась безумием и хмелем.
Схватив берданку, осмотрел заряды и выбежал на дорогу.
Ветер ерошил на непокрытой голове волосы и спускал на глаза.
Хвои шумели.
Вечерело. Карев ходил набрать грибов. Заготавливал на отход.
Шел с грустной думой о Лимпиаде и незаметно подошел к дому.
В хате светился огонь, и на полу сырой картошкой играл кот.
На крыльце он увидел темную тень и подумал, что его кто-то ожидает.
Прислоненная к перилам тень взмахнула ружьем.
«Филипп, — подумал Карев, — на охоту, видно, напоследок зовет…»
Грянул выстрел, и, почуял, как что-то кольнуло его и разлилось теплом.
Упал… по телу пробегла дремная слабость. Показалось еще теплее, но вдруг к горлу хлынуло как бы расплавленное олово, и, не имея силы вздохнуть, он забился, как косач.
Стихало… От дороги слышались удаляющиеся шаги. Месяц, выкатившись из-за бугра долины, залил лунью крыльцо и крышу.
— Ку-гу, ку-гу… — шомонила за мельницей сова.
1915 г.
СЛОВАРЬ МЕСТНЫХ РЯЗАНСКИХ НАРЕЧИЙ
Составлен А.А. Есениной. Приводится с некоторыми сокращениями.
Артус — просфора, освященная в первый день пасхи.
Бочаг — яма на дне реки, омут.
Брус — крайний ряд кирпичей у чела печи.
Брусница — деревянный футляр для точильного бруса. Во время работы привязывается ремнем за спину косца.
Бурыга — ухаба, рытвина.
Бучень — птица выпь.
Воронок — медовая брага с хмелем.
Выбень — выбитое место.
Вяхирь — сетчатый кошель для сена.
Гребать — брезговать.
Грядки — две продольные жерди, образующие края кузова провозки.
Донце — дощечка со специальной рамкой, на которую садится пряха, вставляя в нее гребень или кудель.
Жарница — глиняная миска для запеканов.
Забурукал — глухо, невнятно заворчал, забормотал.
Задвашить — задушить.
«Заря-зоряница…» — заговор от бессонницы. Есенин слышал его от матери.
Засемать — засуетиться, зачастить ногами.
Засычка (норовить в засычку) — задираться, ввязываться в драку, скандал.
Захряслый — затверделый.
Зубок — подарок новорожденному.
Калпушка — детский чепчик.
Кочетыг — тупое, широкое, плоское шило для плетения лаптей и кошелей.
Кулага — заварное жидкое тесто из ржаной муки с солодом.
Лоск — лог, лощина или низкое место в поле.
Лушник — ситный хлеб, испеченный с луком, пережаренным в масле.
Мотальник — приспособление в прялке для сматывания пряжи.
Мускорно — трудно, кропотливо.
Мухортая — захудалая.
Наянно — навязчиво.
Нехолявый — неопрятный, неряшливый.
Ободнять — рассветать.
Оборки (оборы) — веревочные завязки у лаптей.
Оброть — недоуздок, конская узда без удил, с одним поводом для привязи.
Окадычиться — умереть.
Олахарь — обалдуй, непутевый.
Падина — настил из хвороста под стога сена.
Попки — связанные пучки ржаной соломы, кладущиеся на верх соломенной крыши.
Постная — круглая корзиночка, плетенная из соломы, перевитой мелким лозняком. В ней держат муку и в нее же кладут, как в форму, хлебное тесто для подхода.
Поязать — обещать.
Путро — месиво с мучными высевками для скота.
Пьяника — лесная ягодка (голубика).
Пятерик — бревно, из которого можно напилить пять поленьев.
Разепа — разиня.
Саламата — кушанье, приготовленное из поджаренной муки с маслом.
Сиверга (сиверка) — холодная мокрая погода при северном ветре.
Суровика — лесная ягода.
Тудылича — в том месте, в той стороне; или — не теперь, не сейчас.
Тужильная косынка — белая косынка, которой женщины покрывают головы в особо горестные дни — дни похорон и поминания близких людей.
Ушук — мгла.
Хрестец (крестец) — убранный хлеб подсчитывается копнами и крестцами. В копне пятьдесят два снопа, в крестце — тринадцать. В полях хлеб укладывается по двенадцать снопов крест-накрест и накрывается сверху тринадцатым. Отсюда и название — крестец.
Хруп — жесткий, крупный помол муки.
Хрындучить — ерепениться, куражиться.
Цибицы — чибисы.
Чапыга (чапыжник) — частый кустарник, непроходимая чаща.
Чимерика (чемерица) — луговая трава с толстым стеблем и с широкими листьями.
Чичер — резкий холодный ветер.
Шалыган — шалун, бездельник.
Шомонить — лезть, заглядывать, шуметь, наговаривать.