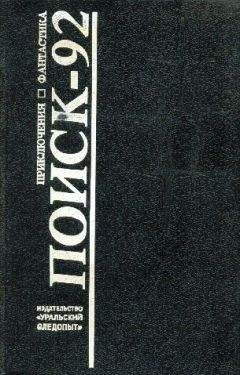Ознакомительная версия.
Штабс-капитан уже не думал о солдатах, потому что пламя мгновенно занявшихся сеновалов оказалось между ним и его преследователями. Они не могли его видеть и, достигнув строений, Вересковский остановился и внимательно огляделся.
Он оказался в районе, застроенном казенного вида кирпичными трехэтажными зданиями. Строгая планировка, мощеные кирпичом улицы были почему-то знакомы, и Александр догадался, что вышел к госпиталям с другой, мало ему известной стороны. Где-то неподалеку должен быть корпус Офицерского резерва, клиника, куда он ходил на перевязки к Анечке, и — ее дом. С отцом-философом с огромными ручищами и вкусным обедом. И идти следовало не в Офицерский резерв, где наверняка уже была выставлена охрана, а — к Анечке. Но идти очень осторожно, чтобы не притащить с собою преследователей.
Тенью скользя вдоль стен корпусов и, пригнувшись, пересекая улицы, Вересковский добрался до стоящего на окраине возле морга дома патологоанатома Платона Несторовича Голубкова. Постоял, прислушиваясь, и три раза стукнул пальцем в стекло тускло освещенного окна. Кто-то чуть откинул занавеску, но окно не открылось, и капитан постучал вторично. И снова — три раза.
Окно распахнулось, из него высунулся патологоанатом:
— Кому я понадобился?
— Капитан Вересковский. Мне вы пока еще не понадобились, но если пустите в дом, буду премного обязан.
На секунду мелькнув перед окном, чтобы доктор мог удостовериться, штабс-капитан скользнул к двери. За нею звякнула щеколда, и дверь приоткрылась.
— Быстро, — шепнула Анечка, пропуская его в дом. — Вы устроили такой тарарам, что они могут нагрянуть с обыском.
— Можете спрятать?
— Могу, — сказал Платон Нестерович, появляясь в дверях комнаты. — Мертвяков не боитесь?
— Насмотрелся.
— Тогда прошу, — доктор посторонился, пропуская Александра. — Аничка, будут стучать, заговори их, пока не вернусь.
Он молча провел Вересковского в свой кабинет, откуда шел коридорчик в прозекторскую. Здесь остановился.
— Раздевайтесь до белья.
— А оружие?
— Я спрячу.
Штабс-капитан торопливо разделся, оставшись в одном белье. Платон Нестерович сам сдернул с его ног носки и протянул марлевую повязку, закрывающую рот и нос.
— Дышать только через марлю и, по возможности, неглубоко, — открыл баночку. — Натрите ноги.
— Холодит.
— А вы — покойник, — невозмутимо пояснил патологоанатом. — Если кто и коснется, сомнений не возникнет. Прошу в мертвецкую
Открыл дверь в подвал, где горела тусклая электрическая лампочка. Первым спустился, и следовавший за ним в кальсонах и нижней рубахе капитан невольно остановился на последней ступеньке.
В углу лежала груда трупов. Кто в нижнем белье, кто — в чем мать родила.
— Единственный способ, — несколько виновато пояснил Голубков. — Придется полежать под ними, пока гости не уйдут.
Сильными руками он отбросил в угол несколько трупов, подвинул еще два. Образовалась впадина, на которую Платон Несторович и указал своей огромной ладонью:
— Прошу, капитан. Дышать только через марлю.
Александр послушно улегся на живот, всем телом ощутив вдруг мертвый, безжизненный холод окоченевших тел. Положил лоб на согнутый локоть, чтобы дышать по возможности собственной живой теплотой. Спина чувствовала, как его заваливают сверху. Чувствовала не столько тяжестью, сколько жутковатым потусторонним холодом. Услышал голос:
— Не шевелиться. Ни коим образом не шевелиться.
Скрипнула дверь, и свет погас.
Вересковский лежал, не шевелясь и дыша через нос, как было велено, но смутное чувство внутренней тревоги не оставляло его. Нет, он не боялся, что его предадут или найдут: иной была эта тревога. Тревога из детской, из сказок, легенд, баллад, слухов и каких-то детских, смутных представлений о потусторонности, в которой нет ничего живого, кроме упырей. Он понимал, что это — оттуда, из царства страхов без причин и последствий, но ничего с собою не мог поделать. И мечтал только о том, чтобы все побыстрее закончилось.
Скрипнула дверь, вспыхнул свет, послышались шаги.
— Вот мои постояльцы, — он узнал голос патологоанатома. — Предупреждаю, все — от сыпняка. Не подцепите ненароком.
— А чего ж тут бережешь? — голос был чужим, грубым, махоркой прокуренным.
— Для того, чтобы сжечь их, требуется заключение врачей с тремя подписями и разрешение от Управы.
— Мы теперь Управа.
— Ну, так дайте разрешение и бочку керосина.
— Зачем тебе керосин? Пришлем интеллигентов, зароют.
— Померших от сыпного тифа сжигать положено. Инфекция в землю уйдет, а там и в Днепр.
— Ладно. Чтоб завтрева заявка была.
Вышли. А Вересковский и не слышал, что вышли. Обморок, что ли. Очнулся, когда Платон Несторович мертвые тела с него сбросил и чего-то понюхать дал. Из склянки.
На окраинах собственно России то есть, той территории, которая долгое время именовалась Московской Русью, сохранилось немало губернских центров, весьма важных для времен мирной торговли и мирного управления. Их невозможно представить себе без особой стати редких городовых, обязательного памятника какому-либо императору, степенных торговых рядов, степенных лавочников, воображающих себя купцами, и хитроглазых купцов, на всякий случай выглядящих лавочниками в миллионных сделках на лен или коноплю. Здесь летом непременно гуляют по вечерам с тросточками и зонтиками вдоль реки, а в осеннее ненастье собираются в Благородном Собрании или Купеческом Товариществе, где пьют исключительно французские вина из Таганрога и некое безадресное шампанское с пеной, способной погасить небольшой пожар. Это — царство благодушия и несокрушимой веры в завтрашний день, который зреет в двух гимназиях, реальном училище и общественном приюте для особо одаренных девиц, утративших отцов-кормильцев. Жизнь в таком городе не течет, как река-кормилица, а струится из мраморных губок амура, которого подарил городу предпоследний губернатор. Вот почему при наступлении времен смутных и непредсказуемых жители этой тихой заводи и оказались никому абсолютно ненужными, и лишь путались у всех под ногами.
Таким губернским городом, как вскоре выяснилось и стал тот, в гимназии которого набирался ума и знаний общий любимец семьи Вересковских Павлик. Здесь у них была городская квартира, где он и остановился, плотно перекусил, опоздал в гимназическую канцелярию и отправился разглядывать город, ощущая себя почти взрослым, самостоятельным и независимым.
А в городе происходила очередная смена власти. И началась она с проверок шатающегося без дела населения не столько ради введения жандармского порядка, сколько ради пополнения вдруг отощавшего местного бюджета посредством наложения штрафов.
А у легкомысленного гимназиста ни денег, ни каких-либо документов при себе не оказалось, и его загребли в участок. Павлик объявил эти действия произволом и наотрез отказался назвать лицо, которое могло бы за него поручиться. Поступал он так из юношеского убеждения, что свобода не столько общественное достояние, сколько личное, и это убеждение, как выяснилось, и определило всю его дальнейшую жизнь и судьбу.
В участке на него никакого внимания не обращали — хочет сидеть, пусть сидит — и занимались собственными делами. А тут власть в городе опять переменилась, и захватившие ее борцы за свободу первым делом начали улучшать жилищные условия неимущих граждан. И городская квартира Вересковских была тут же объявлена коммуной, всех ее жильцов попросили немедленно ее покинуть, а так как мандатом служил товарищ маузер, то все очень быстро ее и покинули.
Павлик об этом не знал, продолжал упорствовать, поскольку в участке его кормили и поили, а борцы за удобства неимущих приступили ко второму пункту своей немудреной программы, объявив лютую борьбу интеллигенции, как классу, от которого нет решительно никакой пользы. Полицейские участки стали переполняться, кое-как допрошенную интеллигенцию тут же спихивали в тюрьму, а так как Павлик подходил под эту категорию, то в конце концов туда же спихнули и его. Он перепугался, поспешно назвал адрес того, кто мог бы подтвердить его личность, но по указанному адресу проживали уже какие-то коммунары, почему его слезную просьбу и оставили без внимания. Тут, как на грех, власть снова переменилась и стала сажать в тюрьмы вчерашних социально-близких, которых во всем просвещенном мире называли просто уголовниками. Интеллигенцию стали отпускать после легкой проверки, но Павлика это не коснулось, поскольку его уже успели зарегистрировать в участке, как беспаспортного бродягу.
Вначале было сносно. Дружно хлебали баланду, возмущались несправедливостью, горевали, гадали, спорили. Блатные играли в карты и никого не трогали, потому что деньги пока путешествовали по кругу. Но потом стали все чаще задерживаться в одних руках, матерщина начала крепчать, а в конечном итоге проигравшиеся блатняки начали все чаще нехорошо оглядываться на прочую публику. Наконец, не выдержав, один из них вскочил, неожиданно схватил Павлика за шинель и заорал:
Ознакомительная версия.