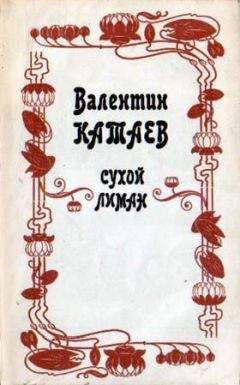Среди барышень нашего дома имелась одна очень хорошенькая блондиночка с нежным польским лицом, всегда носившая розовое платье. Розовое ей шло. Она была дочкой архитектора, построившего дома общества квартировладельцев в несколько декадентском стиле украинского модерна с высокими западноевропейскими черепичными крышами, салатно-зелеными рамами окон со скошенными верхними углами и коваными решетчатыми воротами, украшенными большими железными подсолнечниками.
Звали ее Зоей, и она была большая любительница целоваться с мальчиками, о чем знали все окрестные гимназисты, реалисты и кадеты. Когда кому-нибудь из них приходила охота целоваться, они свистом вызывали с третьего этажа Зойку, и они бежали к морю, залезали на прибрежную скалу, быть может помнившую еще Пушкина, и там целовались.
Она действительно очень хорошо целовалась, но без всякого любовного чувства, скорее с чувством юмора.
Я тоже не захотел отстать от товарищей и, замирая от страха, так как еще никогда в жизни не целовался, посвистел Зойке. Она проворно сбежала по лестнице со своего третьего этажа в развевающемся розовом платье и, не выразив никакого удивления, что свистел я, мало знакомый ей мальчик, взяла меня за руку, и мы через узорчатые чугунные ворота, сохранившиеся еще с пушкинских времен на Французском бульваре, побежали к морю, вскарабкались на скользкую скалу, поросшую снизу водорослями и мхом, и, не теряя времени, начали целоваться, причем я был страшно смущен своим неумением целоваться, даже покраснел от стыда, но она не обратила на это внимания, и затем, не сказавши друг другу ни слова, мы скоро возвратились домой, а по дороге встретили толстого гимназиста Колю Банова, бровастого болгарина, который подмигнул мне и деловито спросил:
– Целовались?
Но Зою никак нельзя было включить в мой донжуанский список. Она была вне программы.
Некоторые мои романчики проходили в очень тяжелой форме, даже с мучениями ревности. Но, в общем, это были пустяки: ленточки из косы на память, письмецо на голубой бумаге, стишки в альбом: «Бом-бом-бом, пишут тебе в альбом. Хи-хи-хи, вот тебе стихи» – дли во время игры во флирт цветов застенчиво переданная карточка с надписью «фиалка», что значило «я вас люблю».
«Действ. арм. 20-11-16 г. Дорогая Миньона!…»
Впервые я рискнул назвать ее не милой, что, в сущности, ничего не объяснило, а дорогой. Это уже был с моей стороны рискованный шаг вперед. Вопрос: поймет ли она его намек? ответит ли она на него тоже «дорогой»?
«Сейчас я весь под впечатлением небольшого передвижения, в котором принимала участие наша батарея и особенно наш отдельно стоящий второй взвод.
В десять часов вечера по телефону из штаба бригады передали приказание: «Передки на батарею». Сейчас же началась суета. Наскоро кончаем ужинать, выпиваем кипяток из чайника, так аппетитно пускавший пар, греясь на печке. Собираем вощи в мешки. Я накануне постирал свое белье, и теперь оно как раз готово, то есть совершенно высохло, развешанное на сухом морозном ветру, и стало твердым, лубяным. Вися на веревке возле входа в землянку, оно даже издавало барабанные звуки;
У орудия – прислуга, одетая по-походному. Во мраке светятся электрические фонарики орудийных фейерверкеров. Вьюжит. В лицо бьет пурга. В чернильно-туманной дали время от времени взлетают зелеными звездочками немецкие осветительные ракеты. Выкатываем орудия. Меня награждают чайником и какой-то жестянкой, связанными вместе. В свободной руке узелок с артельным чаем. Одним словом, я напоминаю не то посудный, не то скобяной, не то чайный магазин.
Слышится грохот подъезжающих передков, конское ржанье. Из тьмы выступают тяжелые силуэты парных упряжек, фигуры ездовых в тулупах.
Легкая неразбериха.
Наконец орудийные лафеты надеты на передки. Двигаемся. Ветер бьет в лицо. Ноги вязнут в сугробах. Грудь покрывается слоем липкого снега.
Наша колонна движется по знакомым местам: узнаю, вернее, угадываю в снежной темноте сожженное и разбитое снарядами село, голые печные трубы, березы с ветвями, обитыми осколками снарядов. Бугор, у подножия которого землянка штаба первого дивизиона. У дороги распятие, проходя мимо которого я снимал папаху и крестился, по-детски свято веруя в бога, в его святую волю…
Подъемы. Спуски. Мелколесье. Елочки. Сосны. Иногда под ногами скользкий лед. Шагаю возле зарядного ящика номер четыре. Мне трудно идти. Я устал. Кажется, что иду уже по снегу не час, не два, а десять лет. Медный орудийный чайник комично бренчит болтающейся на веревочке крышкой. Или, кажется, наоборот: крышка на веревочке бренчит о чайник. По этому поводу кто-то из солдат на мой счет острит, кто-то смеется.
Ветер. Вьюга. Усталость. Все батарейцы устали не меньше меня. Некоторые остаются. А я из всех сил держусь. Не отстаю.
После двухчасового безостановочного движения изнеможенные, переходя с проселка на проселок, громыхая по железнодорожным переездам, добираемся наконец до новой позиции.
Новая позиция очень близко от немцев, не больше чем за три четверти версты. Никогда не предполагал, что артиллерию так близко выдвигают вперед!
Вокруг березовый лес.
Нет, Вы только подумайте, Миньона, настоящий не нарисованный Левитаном русский березовый лес, которого мы, новороссийские степняки, никогда и в глаза не видели.
Но какая красота! Заплакать можно!
Спим, как убитые наповал. Утро. Глушь. Снег. Березы. Какие-то голые кораллово-красные кусты, торчащие из сугробов (краснотал, что ли?), и можжевельник совсем как в стихах:
«И ягоды туманно-сини на можжевельнике сухом».
Какая вокруг хмурая красота!
Иду с ведром в руке по воду к колодцу, сруб которого стоит на открытом месте. Нет ничего опаснее на фронте, чем открытое место. Немцы заметили и пустили пять-шесть снарядов. Само собой промах, потому что в противном случае, Вы сами понимаете! Не было бы этого письма.
Осколки не зацепили меня, хотя один снаряд разорвался в 10 – 15 саженях. Я лежал, уткнувшись носом в сугроб, прикрыв голову ведром, как будто бы это могло спасти. Видно, бог меня хранит.
Получаете ли Вы мои письма?…»
У дороги недалеко от колодца виднелось распятие. Если на фронте было тихо, то мне позволялось побродить по окрестностям, не слишком отдаляясь от орудийного взвода. Я любил ходить к этому распятию.
Старый, серый от времени деревянный крест с неестественно маленькой фигуркой пригвожденного богочеловека, свесившего почти что детскую головку в терновом венце.
Кажется, по польско-католическому обычаю на одном конце перекладины креста висел молоток, на другом – клещи: орудия распятия.
Вдалеке в тумане слабо виднеется как бы рыбья косточка костела, постепенно разрушающегося от наших и немецких снарядов.
Распятый Христос и разрушающийся храм.
Было странное несоответствие между распятым Христом, разрушением храма, тем кровопролитием, которое совершалось здесь, под Сморгонью, и во всем мире, и красотой природы.
Маленький обнаженный человек с прикрытыми чреслами и повисшей головою в терниях почитался спасителем. Неужели он отдал свою жизнь за спасение человечества? И напрасно. Ничего он не спас. Люди продолжают истреблять друг друга. Как может это происходить?
Впервые в жизни я подумал вполне серьезно о войне, участником которой стал по доброй воле.
Еще совсем недавно война предстала мне в облаке горячей пыли, которую гнал в глаза июльский ветер с соломой, клочьями сухого сена, мелким сором, в то время как я пересекал привокзальную площадь, так называемое Куликово поле. В клубах пыли развевались гривы деревенских лошадей, пригнанных сюда по мобилизации из окрестных сел и немецких колоний. Деревянные бирки на конских хвостах и горы прессованного сена воспринимались как знаки начавшейся катастрофы.
Что я знал о войне? Ничего. Я пол с чужого голоса:
«Война объявлена», «Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! Италия! Германия! Австрия! И на площадь, очерченную чернью, багровой крови пролилась струя».
Как таинственно и еще совсем непонятно звучали пророческие слова:
«Европа цезарей! С тех пор как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних, впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта».
Я знал, кто такой Бонапарт, но по своему невежеству понятия не имел о Меттернихе, тем более что у него в руке было почему-то гусиное перо, направленное на Бонапарта. Гусиное перо виделось как дуэльный пистолет. Менялась карта Европы. Но, может быть, не только Европы, но и всего мира.
Темные предчувствия томили меня. Я ощущал, хотя и не сознавал этого еще, вину перед человечеством. Не какую-нибудь отвлеченную, чью-то чужую вину, нет! Вину свою собственную, личную. Промелькнула ужасающая догадка, что это я сам захотел войны и желание мое исполнилось.
Еще ничего ужасного не произошло. Еще мир дремал под лучами полуденного солнца. Еще: