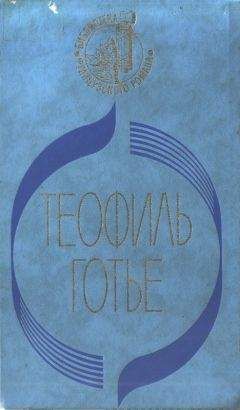Вот ее наряд: на ней бархатное платье, алое или черное со вставками из белого атласа или серебряной парчи; корсаж с большим вырезом; огромный гофрированный воротник à la Медичи; фетровая шляпа вычурной формы, как на Елене Систерман, с длинными белыми перьями, пышными и завитыми; на шее — золотая цепочка или бриллиантовое ожерелье, а пальцы сплошь унизаны массивными перстнями с эмалями.
Я не прощу ей отсутствия хотя бы единого кольца или браслета. Платье на ней должно быть именно бархатное; в самом худшем случае я, так и быть, позволю ей опуститься до атласного. Мне больше нравится комкать шелковую нижнюю юбку, чем полотняную, и ненароком ронять с волос красавицы жемчуг или перья, а не живые цветы или обыкновенный бант; знаю, что изнанка полотняной юбки порой бывает, по меньшей мере, столь же соблазнительна, что и шелковой, но мне больше по вкусу шелк. Да, в мечтах я перепробовал на роль моей возлюбленной немало и королев, и императриц, и принцесс, и султанш, и знаменитых куртизанок, но никогда не доверял ее ни мещанкам, ни пастушкам; и в самых своих мимолетных мечтах никогда ни с кем не грешил ни на травке, ни на простынях из омальской саржи. По-моему, красота — это бриллиант, который следует огранить и оправить в золото. Не представляю себе красавицы, у которой не было бы кареты, лошадей, лакеев и всего, что подразумевается ста тысячами франков ренты: красоте подобает богатство. Одно требует другого: хорошенькая ножка — хорошенькой туфельки, туфелька — ковра и экипажа, и так далее. Красивая женщина в бедном платье, в убогом жилище — это, по-моему, самое тягостное зрелище на свете, и я бы не мог ее полюбить. Только богатые и красивые имеют право влюбляться, не опасаясь выставить себя в смешном и жалком свете. В этом смысле очень немногие люди могут позволить себе роскошь влюбиться; я, первый, оказываюсь исключением из их числа — и все-таки таково мое мнение.
В первый раз мы встретимся с нею прекрасным вечером, на закате; небо будет играть теми же желто-оранжевыми красками, переходящими в лимонные и бледно-зеленые тона, какие мы видим на некоторых картинах великих мастеров прошлого; я окажусь в широкой аллее, окаймленной цветущими каштанами и вековыми вязами, дающими кров диким голубям: эти прекрасные деревья будут покрыты густой и свежей листвой, образующей и таинственную и влажную сень; в зелени тут и там будут белеть то статуя, то мраморная сверкающая ваза; подчас блеснет пруд, в котором привычно снует лебедь, а в глубине парка — замок из кирпича и камня, как строили во времена Генриха IV, — с островерхой черепичной крышей, с высокими трубами, с флюгерами на всех коньках, с узкими и высокими окнами. У одного из этих окон, печально облокотись на решетчатые перила, в одеянии, которое я тебе только что описал, будет сидеть царица моей души; за ее спиной — негритенок, держащий веер и попугайчика. Как видишь, я ничего не упустил — и все это совершеннейшая бессмыслица. Прекрасная дама роняет с руки перчатку, я поднимаю ее и, запечатлев на ней поцелуй, возвращаю владелице. Завязывается беседа; я обнаруживаю все то остроумие, коего начисто лишен; произношу очаровательные фразы; мне возражают, я подхватываю нить — это фейерверк, это блистательный вихрь острот. Словом, я показываю, что достоин восхищения, — и удостаиваюсь восхищения. Близится время ужина, меня приглашают, я принимаю приглашение. Друг мой, какой ужин и что за прекрасный повар — мое воображение! В хрустале играет вино, на тарелке, украшенной гербом, дымится золотистый нежный фазан: пиршество затягивается далеко за полночь, и, как ты догадался, эту ночь я провожу не дома. Ну, недурно придумано? А ведь ничего нет проще, и странно только, что все это не приключилось со мной уже десятки раз, а не то что один.
А иногда все происходит в чаще леса. Мимо пролетает охота; поет рожок, собачья свора захлебывается лаем и с быстротой молнии пересекает дорогу; на турецком скакуне, белом, как молоко, необыкновенно горячем и резвом, скачет красавица в амазонке. Она превосходная наездница, но конь фыркает, приплясывает, встает на дыбы, и она отчаянно пытается его удержать; он закусил удила и несет ее прямо к пропасти. И тут я как по заказу падаю с неба, останавливаю коня, подхватываю на руки принцессу, она — в обмороке, помогаю ей прийти в себя и доставляю в замок. Неужели высокородная дама оттолкнет человека, рискнувшего ради нее жизнью? Да никогда! А благодарность — это одна из окольных тропинок, ведущих к любви.
Согласись, по крайней мере, что если я и впадаю в романтизм, то лишь наполовину, и что безумен я ровно настолько, насколько это возможно. Вечно со мной та же история: нет на свете ничего более унылого, чем рассудительное безумство. Согласись также, что письма, которые я пишу, напоминают скорее пухлые тома, чем обычные послания. Мне всегда милее то, что выходит из предуказанных границ. Потому-то я тебя и люблю. Не слишком потешайся над всеми глупостями, которые я на тебя обрушил: я откладываю перо и перехожу к действиям, потому что вновь и вновь возвращаюсь к одному и тому же рефрену: я хочу, чтобы у меня была возлюбленная. Не знаю, будет ли это дама, которую я видел в парке, или красавица на балконе, но прощаюсь с тобой, чтобы устремиться на поиски. Я решился. Даже если та, которую я ищу, прячется в глубине Поднебесной империи или Самаркандского царства, я вызволю ее оттуда! Сообщу тебе об успехе моей затеи или об ее крахе. Надеюсь на успех: помолись за меня, бесценный друг. Ну, а я наряжусь в лучший мой фрак и выйду из дому с твердым намерением возвратиться не иначе как с возлюбленной, которую себе выдумал. Довольно мечтаний — пора действовать.
P.S. Сообщи мне, что слышно о юном Д**, что с ним сталось? Здесь никто о нем не знает. И передай от меня поклоны твоему почтенному брату и всем родным.
Что ж, друг мой, я вернулся домой, не посетив ни Поднебесной, ни Кашмира, ни Самарканда; но справедливость требует признать, что возлюбленной у меня как не было, так и нет. А между тем я сам себя брал за руку и клялся самой страшной клятвой, что пойду хоть на край света, — и что же? Я не побывал даже на краю города. Не знаю, как мне это удается, но я никогда не исполняю обещанного, даже если обещал сам себе; вероятно, тут не обходится без нечистой силы. Стоит мне сказать: «Завтра я туда пойду», — и можно не сомневаться, что я весь день просижу дома; если я решил сходить в кабак — отправляюсь в церковь; если собрался в церковь — дорога так и петляет у меня под ногами, путаясь, как моток ниток, пока не приведет меня в совершенно другое место. Я пощусь, едва затею оргию, и так далее. Кстати, думаю, что найти себе возлюбленную мне мешает именно то, что я твердо это решил.
Надобно мне во всех подробностях описать тебе мою экспедицию: она достойна того, чтобы о ней рассказывать. В тот день я добрых два часа уделил туалету. Я велел себя причесать и завить, взбить и умастить ту чахлую поросль, что зовется у меня усами, а когда обычная бледность немного оживилась краской охватившего меня желания, оказалось, что я вовсе недурен собой. Наконец, тщательно осмотрев себя в зеркалах при различном освещении, чтобы убедиться, что я в самом деле хорош и на лице у меня светится достаточно любезности, я решительно вышел из дому с высоко поднятой головой, вздернутым подбородком, взглядом, устремленным вперед, подбоченясь, цокая каблуками, как бравый сержант, толкая обывателей и храня безукоризненно победоносный и торжествующий вид.
Я чувствовал себя новым Ясоном, пустившимся на поиски золотого руна. Но, увы! Ясону посчастливилось более, чем мне: мало того, что он захватил руно, он еще и добыл прекрасную царевну, а у меня нет ни царевны, ни руна.
Итак, я шел по улицам, разглядывая всех женщин, и когда какая-нибудь казалась мне достойной пристального осмотра, мчался за нею и глазел в упор. В ответ одни из них напускали на себя величавую неприступность и проходили мимо, не поднимая глаз. Другие сначала недоумевали, а потом и улыбались, если у них были красивые зубы. Некоторые оборачивались чуть погодя, когда думали, что я уже на них не смотрю, — «им хотелось меня разглядеть, и они краснели как вишни, встретившись со мною глазами. Погода стояла прекрасная; на улицах было полно гуляющих. Между прочим, (вопреки влечению, каковое я питаю к наиболее интересной половине человечества, я вынужден признать, что пол, который принято называть прекрасным, на самом деле чудовищно безобразен: на сотню женщин от силы одна более или менее недурна. У той растут усы, у этой — синий нос, у некоторых на месте бровей какие-то красные дуги; одна оказалась хорошо сложена, но лицо у нее было багровое. У другой было прелестное личико, но она запросто могла бы почесать себе ухо плечом; третья посрамила бы Праксителя округлостью и плавностью форм, но она семенила, переваливаясь на ножках, похожих на турецкие стремена. Еще одна являла взорам самые роскошные плечи, какие только бывают на свете, зато руки ее формой и размером напоминали гигантские перчатки кроваво-красного цвета, что служат вывеской галантерейщикам. И потом, сколько усталости на всех лицах! Как все они измождены, испиты, какой на них лежит подлый отпечаток мелких страстей и мелких пороков! Какое завистливое выражение, сколько недоброго любопытства, жадности, бесстыдного кокетства! И насколько, наконец, некрасивая женщина безобразней, чем некрасивый мужчина!