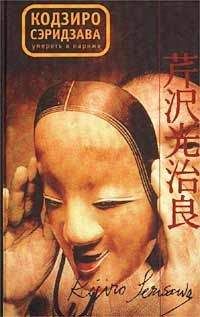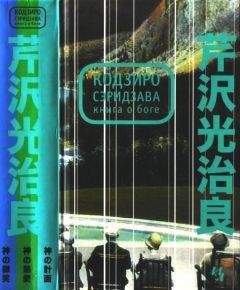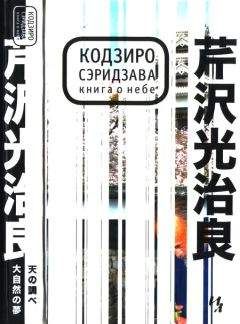Учитель Нисияма не придирался к внешнему виду и поведению ребят. На занятиях в классе он был строг, но в другое время предоставлял детям свободу и играл вместе с ними. От той поры, когда наш класс вёл Нисияма, у меня остались самые радостные воспоминания, и я решил постараться стать для своих пяти десятков малышей таким же незабываемым преподавателем, каким был он для меня. За исключением уроков гражданской добродетели и пения, я преподавал все предметы, поэтому, не трогая часов, отведённых на гражданскую добродетель и пение, я перекроил расписание моих занятий, составленное завучем. Я самовольно сделал то, что сейчас назвали бы комплексной программой. Вместо того чтобы проводить уроки физкультуры на пыльной спортивной площадке, мы с учениками в предобеденное время, если позволяла погода, прихватив провизию, отправлялись на побережье Сэмбон и там резвились на воле. Иногда, устроившись у корней сосен, я рассказывал ребятам почерпнутые из книг морские истории, читал детские книжки вроде сказки об Иване-дураке. Четырёхклассники с интересом слушали "Казаков" Толстого. Иногда я посвящал их в свою мечту поступить, несмотря на бедность, в Первый лицей, стараясь тем самым воодушевить их юные сердца. Директор школы, с беспокойством следивший за моими методами преподавания, велел мне проводить занятия по физкультуре на спортивной площадке. Но мне, который сам в своё время терпеть не мог физкультуры, было противно заставлять полусотню озорных чертенят подчиняться одной команде и выполнять упражнения под счёт раз-два, раз-два, раз-два, и сами дети так рвались на морской берег, что я не стал исполнять приказ. Иногда директор входил без предупреждения в классную комнату во время занятий. Я и в его присутствии не менял своей манеры вести урок, но, поскольку успеваемость у меня в классе была высокой, он не делал мне замечаний.
Дети — отнюдь не невинные создания, а очень даже дурные человечки. Я постарался как можно теснее сблизиться с ними, сродниться. Сочинение я им разрешал писать, кому как заблагорассудится. Внимательно и с уважением прочитывал их письменные домашние задания. Я был убеждён: сочинение даёт ключ к сердцу ребёнка, позволяет понять, какая у него среда воспитания. Конечно, в том, что они писали, было много вранья, но ведь дети самые настоящие романисты, они фантазируют, основываясь на фактах своей жизни. Среди детей попадались нечистые на руку. Были злостные прогульщики. Были сироты, которые более всего нуждались в ласке. Каждый из них обладал своим, особенным счастьем, нёс на своих плечах своё, особенное горе, и, по мере того как я узнавал их, я всё более к ним привязывался.
Должно быть, и дети испытывали ко мне интерес, во всяком случае, во время моих ночных дежурств многие из них приходили ко мне в дежурную. В отличие оттого, как они себя вели в классе, здесь дети общались со мной накоротке, как с другом или старшим братом, посвящая меня во все свои домашние проблемы. В девять часов полагалось с фонарём в руке обходить школьный двор. Я был довольно боязлив, но ребята, шумно галдя, составляли мне компанию. После обхода я провожал их до школьных ворот и просил тех, кому было в одну сторону, идти всем вместе и не разбредаться, отвечая друг за друга, и ни разу никто из них не заблудился.
Среди полусотни учеников только пятеро собирались поступать в среднюю школу. Я беспрестанно убеждал детей, что, несмотря на бедность, поступать в среднюю школу необходимо. Я не задумывался о том, какое влияние всё это окажет на детские души, но испытывал негодование при мысли о том, как нерационально было бы оставить без развития ростки замечательных способностей, которыми в избытке был наделён каждый из моих подопечных. В позапрошлом году пятеро из моих учеников, те, что оказались в это время в Токио, собравшись, устроили вечер в мою честь. Все они окончили Императорский университет, один стал профессором. Среди прочих многие окончили различные училища под моим, как они утверждают, влиянием, хотя я и преподавал у них всего один семестр. Но, честно говоря, меня бросает в жар при мысли о том, каким я был тогда жеманным и неестественным. Некоторые из моих учеников, находясь на передовой линии фронта, прочли мои романы и прислали мне письма, спрашивая, не я ли их автор. Но я вспоминаю и нерадивых моих учеников, тех, кто доводил меня до слёз, и тех, кого я оставлял в классе за воровство, а они в отместку мочились на пол… В тот вечер встречи я расспрашивал и о них, но никто ничего не знал. Всякий раз, когда я думаю о таких ребятах, меня берёт тоска: неужели некоторые люди с самого рождения обречены нести на себе бремя бед?
С приближением экзаменов в Первый лицей я испытывал всё большее беспокойство. Мой старший брат передал туда моё заявление. Но по силам ли мне сдать экзамен? А если и сдам экзамен, буду ли зачислен? А если буду зачислен, откуда возьму деньги на обучение?
Из окна классной комнаты была хорошо видна Фудзияма. Пока ученики отрабатывали написание иероглифов, я рассеянно стоял у окна и смотрел на неё. "Ну что ж, господин Нисияма, вот и я стал замещающим учителем!" — горько усмехался я про себя. Я получил у директора разрешение поехать в Токио для сдачи экзамена. Бабушка была уверена, что я доволен работой в школе, поэтому, когда я сообщил ей, что собираюсь в Токио, она чрезвычайно удивилась:
— Неужто тебе опять надо учиться? Только я порадовалась, что ты стал учителем, выбился в люди, и на тебе — опять в ученики!
Говорила она шутливо, но в словах её чувствовалась печаль.
— В Токио, говорят, трамваи носятся туда-сюда, так что уж ты будь, пожалуйста, поосторожнее, смотри по сторонам, не то раздавят! — наставляла она меня, на ощупь помогая укладывать чемодан.
С тревожным сердцем, переполненный честолюбивыми мечтами, я сел на поезд, отправлявшийся в Токио.
1
В сентябре пятого года Тайсё[29], погожим вечером я вошёл в общежитие, северный корпус, десятый номер. На грубо сколоченных столах в пыльной комнате для самостоятельных занятий были наклеены имена двенадцати студентов — моих сожителей. Несколько человек уже вселились. Когда я представлялся, на башне часы пробили пять. С каким волнением я слушал этот бой…
Накануне вечером молодые люди из тех, что посещали наш храм, почти десять человек, устроили для меня в молельном зале проводы. Впрочем, проводами назвать это трудно, поскольку по случаю большого улова в тот день пировала вся деревня. Молодые люди, мои ровесники, были рыбаками, но в вечера, свободные от работы в море, они обязательно собирались в храме, репетировали ритуальные пляски кагура, осваивали учение Тэнри, учились писать иероглифы. Тем временем я, устроившись в углу за столом и ящичком для книг, повторял уроки. Я сочувствовал страстному желанию этих молодых людей хоть что-то усвоить, но не представлял, какое я бы мог дать им руководство. В молельной каждый вечер, точно в клубе, собирались верующие всех возрастов, мужчины и женщины, и, совершив благодарственное богослужение за благополучно проведённый день, пускались в разговоры на самые разные темы, но я всегда оставался сторонним слушателем. Несмотря на это, и верующие, и рыбаки всегда обращались со мной как со своим товарищем, и молодые люди устроили мне проводы, воспринимая меня как своего представителя. Напившись сакэ, они затянули рыбацкие песни и лишь иногда, вдруг вспомнив, по какому случаю собрались, подносили мне сакэ и говорили наперебой: "Ты уж не забывай свою родину!" или: "Смотри не подведи нас, добейся славы!"
Растрогавшись, я в эти минуты и вправду чувствовал себя их представителем. В то же время я твёрдо решил, поступив в Первый лицей, сразу же начать вытравлять из своего быта всё, что выдавало бы во мне человека, воспитанного на учении Тэнри.
Как описать жизнь в Первом лицее? На нескольких страницах сделать это затруднительно, но прежде всего скажу, что в то время в лицее ещё была жива удивительная преемственность. Здесь царил дух, питавший ростки всевозможных дарований, скрытых в сердцах учащейся молодёжи. Заглянув в любую из комнат общежития, вы бы нашли там самоуверенных молодых людей, собравшихся со всех уголков страны, которые своим говором и местным колоритом напоминали неоперившихся цыплят, а своими замашками подражали орлам, реющим в небесной вышине. Всё это было довольно комично, но в то же время грандиозность устремлений этих юношей впечатляла. Я чувствовал, как много во мне взорвано и разрушено. Я чувствовал, что перерождаюсь… Не знаю, насколько понятно я выразился.
В самом деле, все вокруг было для меня абсолютно новым.
Я впервые жил одной жизнью со своими сверстниками. Впервые жил в большом городе. Впервые вырвался из нищенского окружения. Мне, помимо литературы, открылся театр, открылась живопись, наконец — музыка. Я и сейчас не могу забыть того потрясения, которое испытал, впервые слушая Вагнера на регулярных концертах в консерватории. Пропустив два дня кряду занятия в лицее, я валялся в общежитии, ловя звучавшие во мне мелодии. В то время ещё не появилось радио, граммофоны были большой редкостью, и это было первое моё соприкосновение с западной музыкой. Оказывается, есть мир, который может потрясти душу до самых глубин! Я был поражён. Я был в ярости. Слово "ярость" может показаться неуместным, но именно ярость гнала меня на все, какие только устраивались, концерты. В конце концов я понял, что должен и сам научиться играть на рояле.