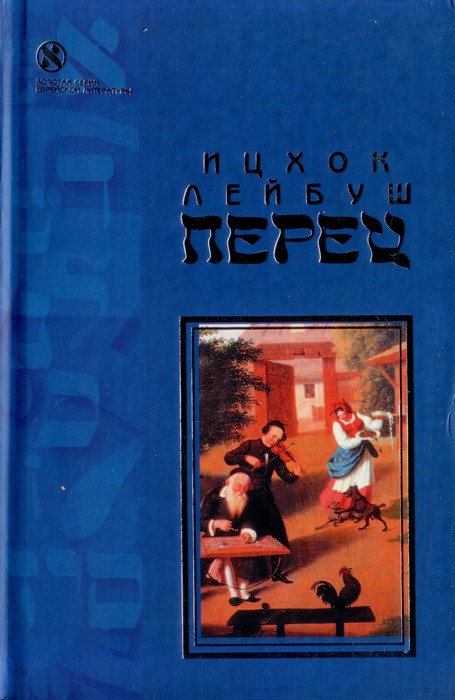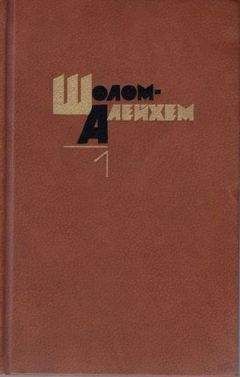опущенные брови постепенно подымались; из глубоких, тихих глаз падало сияние на бледное, теперь одухотворенное лицо. Всем было ясно, что он уходит от мира, руки сами, по себе продолжают, играть, а душа витает где-то высоко-высоко, в мире песен… Иногда он забывался и начинал, также деть, а голос у него был чистый, звучный, словно кларнет…
Не будь реб Хаим набожным, простым евреем, не пришлось бы ему горе мыкать с громадной семьей в восемь душ в Махновке, играл или пел бы в каком-либо театре в Лондоне или Париже… В Бердичеве водятся, однако, и теперь такие чудаки.
Живет себе Хаим в своей Махновке, забирает месяцами в долг во всех мелочных лавочках в счет какой-либо зажиточной свадьбы, которая случится ведь наконец.
В то время, о котором я рассказываю, в Махновке ожидалась богатая свадьба; выдавали замуж дочь Махновского богача Береля Кацнера.
Берель Кацнер, икнуть ему на том, был крупным ростовщиком. Скопидом и скряга он был еще больший. Самому себе куска хлеба жалел… За обедом собирал крошки, курам, мол, пригодятся… Камень вместо сердца в груди имел.
Перед смертью, почти в последние минуты, подозвал он старшего сына, велел принести записную книгу и, указав уже посиневшим пальцем на имена тех, которые не сделали очередного взноса, сказав: «Смотри, не смей делать отсрочек! А то не будет тебе моею благословения!» Затем он подозвал жену и велел снять и спрятать медную посуду, висевшую на стене: «Стоит мне закрыть глаза — сказал он, — чтоб растащили все!..» На этом он и умер.
Оставил он с полмиллиона.
Дочку выдает замуж вдова, спешит со свадьбой; вдова и сама не прочь найти себе суженного, и ей, наконец, жизнь улыбнулась. Ноша с плеч долой! Помолодела даже.
Хаим ждет этой свадьбы, как манны небесной; у него также дочь заневестилась…
Но вдова вздумала выписать на свадьбу Педоцура из Бердичева: будут, мол, гости из Киева, люди, знающие толк в музыке, не хочется ударить лицом в грязь. Педоцур выдумает какой-либо новый поминальный мотив. Стоит свадьба столько, будет стоить еще столько, пусть киевские гости не смеются!
Все надежды Хаима разом рухнули.
Местечко заговорило об этом. Всем жалко Хаима: уж очень его любили. Да и вообще жалко бедного человека
Стали толковать со вдовою и, наконец, порешили; чтоб на свадьбе играл Хаим со своим оркестром, с тем, чтоб до свадьбы он съездил в Бердичев и достал у Педоцура новый поминальный мотив.
Хаим получил для этого несколько рублей, — большую часть получки оставил семье, нанял извозчика и поехал в Бердичев.
Здесь-то и начинается история с воплощениями…
* * *
Бедняку во всем удача! Хаим едет в Бердичев, а Педоцур из Бердичева! Вздумалось как раз талненскому цадику пригласить Педоцура к себе на субботу. Талненский цадик, должен я вам сказать, был очень хорошего мнения о Педоцуре. «Тайны религиозные, говаривал он, скрыты в мотивах Педоцура. Жалко лишь, что Педоцур сам о них не подозревает».
Мечется Хаим по улицам, как угорелый. Не знает, что предпринять. Поехать домой без поминального мотива нельзя; ждать здесь Педоцура тоже не резон, на расходы не хватит. Вдова Кацнер и так мало дала, а он еще большую часть дома оставил! Что делать?
Вдруг увидал он на улице такую сцену:
Ясный, светлый будний день. По улице движется молодая женщина, разодетая ровно в праздник.
На голове у нее очипок с длинными, длинными лентами, различных ярко-кричащих цветов.
В руке — большой серебряный поднос…
За женщиной идут музыканты и играют.
Женщина идет, приплясывая. Иногда остановится с музыкантами у какого-либо дома или лавки и танцует. На музыку собираются люди, раскрываются двери и окна, толпа растет.
Музыка играет, женщина пляшет, цветные ленты развеваются по воздуху, поднос блестит и искрится… Народ кричит: «Поздравляем! Поздравляем!» и кидает монеты. Женщина, приплясывая, ловит монеты на лету, монеты сверкают и позвякивают в такт…
Что здесь происходит? Бердичев — еврейский город, у него свои еврейские обычаи.
Это собирают пожертвования на свадьбу бедной девушке!..
Хаим знал об этом обычае. Знал он также, что женщины отправляются в таких случаях к Педоцуру, и тот всякий раз придумывает музыкальный напев, под который женщины танцуют; то была его лепта! Придут к нему, расскажут о невесте, ее родителях, о женихе, об их нуждах… Педоцур молча слушает, иногда закрывает лицо руками, а когда женщины кончали свой рассказ и наступала тишина, Педоцур начинал напевать «веселую»! Обо всем этом Хаим знал. Почему он, однако, стоит с разинутым ртом?
Никогда он еще такой «веселой» не слыхал, песня смеется и одновременно плачет. В ней чувствуется и горе, и радость, и сердечная боль, и счастье. Все это смешано, слито, спаяно… Настоящая «веселая» для свадьбы сироты!
Хаим вдруг подпрыгнул: у него есть мотив! Пустились в обратный путь из Бердичева. Извозчик взял еще нескольких пассажиров, Хаим не препятствовал. Эти пассажиры, все знатоки пения, потом рассказывали, что, едва въехали в лес, Хаим запел.
Пел он «веселую» Педоцура, но из нее получилось нечто новое. «Поздравление» по случаю бедной свадьбы перевоплотилось в поминальный мотив.
Среди тихого шума деревьев выплыл тихий, сладкий напев…
Песне, казалось, вторил многоголосый, но тихий хор певчих — шумели деревья в лесу…
Тихо, заунывно плачет песня; молит о пощаде, точно молитва больного о жизни…
Песня начинает стонать, краткие возгласы льются — точно кто-то исповедуется в грехах в Судный день или на смертном одре.
Еще громче, но вместе надорванный голос звучит; все более отрывистый, словно слезами заглушенный, точно страданьем изломанный… Затем несколько глубоких вздохов, резкий выкрик; один… другой, и вдруг прерывается, тихо, — кто-то скончался…
Песня снова пробуждается, переходит в горячие, пламенные вопли, стоны летят, обгоняют друг друга, смешиваются, подымаются до неба, плач и рыдания слышатся в песне — точно у могилы.
Вот раздается тонкий, чистый детский голосок, мокрый от слез, дрожащий, испуганный:
Дитя произносит номинальную молитву!
Песня переходит в думу; грезы, мечты, представления, тысячи мыслей медленно растекаются сладкими душевными мелодиями. Утешают, успокаивают… такими добрыми словами, такою крепкой верой, что мир возвращается смятенной душе, и снова хочется жить, страстно хочется жить, хочется верить, воскресают надежды!..
Слушатели были растроганы до слез.
— Что же это за песня? — спросили они.
— Это поминальный напев для дочери Кацнера.
— Не стоило бы, правда, такую песню тратить для этакой души; народу, однако, песня понравится, киевские гости будут восхищены…
Киевские гости, однако, не были восхищены.
Свадьба не происходила уже по стародревнему обычаю, и поминальный мотив был некстати.
Киевские гости предпочитали танцевать с дамами.