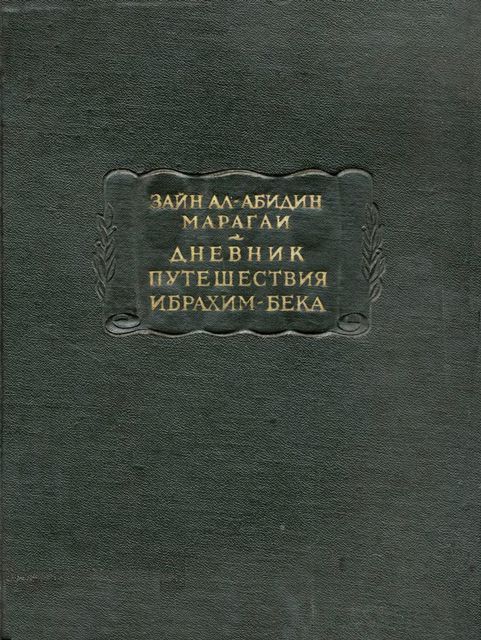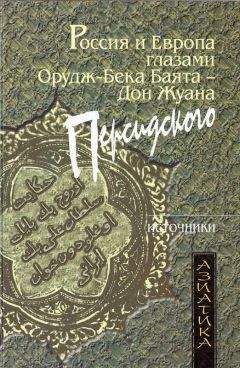немного плова, и мы, позавтракав, двинулись дальше. Ага сеид сидел в коляске рядом с нами. И вот, наконец, через полчаса перед нашим счастливым взором засверкали благословенные купола священной гробницы, [70] которая является частицей Каабы [71] и провозвестницей рая.
Дважды мы выходили из коляски и читали молитву паломников и наконец в величайшем волнении вступили в этот святой град.
Тут прежде всего мы направились в дом аги сеида, где нам отвели комнату. Мы сложили свои вещи, отобедали, потом, захватив узелки с рубашками, бельем и всякой всячиной, отправились с Юсифом Аму и агой сеидом в баню, дабы помыться, переменить одежду и достойно предстать пред священной гробницей.
Войдя в баню, мы чуть не задохнулись от запаха гниющей воды. Яма, наполненная смрадной жижей, носит название «бассейн», или иначе «курр». [72] Вода в этом водоеме от грязи приобрела цвет павлиньего пера, а отвратительный запах ее кружил голову.
Я тут же подумал, каким ужасным рассадником заразы является эта лужа с ее застойной водой, которую не меняют по три месяца, где полощутся день и ночь все жители города, мужчины и женщины, не исключая больных, убогих и запаршивевших!
Я дивился тому, что никто из правителей и улемов [73] этого города не обратит внимания на страшное зло, порождаемое этой грязной лужей, полагая, видно, что достаточно назвать ее «курр», чтобы это сняло с нее всю скверну.
По моему мнению, всякий, кто назовет эту воду чистой, погрешит против нашего святого шариата, [74] который предписывает нам опрятность. Да и как можно вымыться столь грязной водой, цвет и запах которой внушают лишь отвращение? В других мусульманских странах, как например в Египте и Турции, вода в банях течет из кранов, где горячая вода находится рядом с холодной. Вода эта в высшей степени чиста и свежа, так что люди могут ее пить.
Словом, мы вошли в баню чистыми, а оттуда вышли грязными. Ага сеид посоветовал нам оставить узелки в бане и прямо идти на поклонение святой гробнице, но я заявил:
— Нет, сначала зайдем домой, у меня там дело, а уж тогда пойдем на поклонение.
Когда мы пришли домой, я попросил агу сеида, чтобы разогрели самовар и принесли его нам. На это ага сеид заметил, что сейчас не время пить чай.
— Просто я хочу еще раз помыться, чтобы смыть грязь бани, — объяснил я.
— Что вы, баба, ведь бассейн чистый и воды в нем целый «курр»! — Пусть так, но все же он грязный и зловонный.
Одним словом, принесли горячей воды, я помылся, переменил белье и дал себе зарок не ходить больше в Иране в баню.
После этого мы отправились к гробнице восьмого имама [75] на поклонение, свершение коего было предметом моих давних и страстных желаний.
Вступив в святую гробницу, мы поцеловали порог и вместе с агой сеидом начали читать молитву паломников — «Зийарат-наме». [76]
Ах, при лицезрении этого священного места, этой частицы рая и чуда милосердия я забыл все невзгоды и горести, которые претерпел в пути!
. Но язык ничтожного грешника нем, он не в состоянии описать эту святыню, этот подлинный рай. Да и кто из подобных мне дерзнул бы отверзнуть уста, чтобы описать внешний вид и устройство хотя бы одного кирпича из тех глиняных кирпичей, которые составляют эти чистые врата — вместилище ангелов высшего мира?!
Те, кои в состоянии постигать сокровенное и горели в свое время желанием поклониться этой небесной гробнице, хорошо знают, что эта святая обитель — место отдохновения и очищения души.
Когда такой защитник есть, какой же нужен нам оплот?
Зачем морских бояться волн, когда сам Ной корабль ведет? [77]
Исполнив обряд поклонения, мы все вместе совершили намаз и вышли.
В течение двадцати двух дней утром, днем и вечером я приходил в это бесценное место и каждый день успевал еще посмотреть какой-нибудь уголок города.
Однажды мы отправились с агой сеидом осмотреть больницу, находившуюся при святилище.
Что это была за больница! Всякий, кто попадал в нее, болел до тех пор, пока в ней оставался, — вылечиться он мог, лишь с божьей помощью удрав оттуда.
В больнице нет ни сведущих врачей, ни лекарств, а о чистоте и прочих больничных удобствах и говорить не приходится. Под видом расходов на больницу управляющие без зазрения совести ежегодно кладут» в свой карман большие суммы из казны святилища. По словам аги сеида, святой храм имеет от всех своих владений и приписанных земель более двухсот тысяч туманов дохода. Но безбожные и бессовестные дармоеды считают эти суммы своими и под разными предлогами присваивают их себе, не имея фактически права ни на один грош.
Сверх того, каждый вечер, якобы для угощения паломников, варится плов из двух харваров [78] риса со всеми необходимыми специями, и все это уплывает в дома чиновных лиц, их родственников и свойственников, которые фиктивно приписаны к святой гробнице. И меньше всех видят этот рис и мясо паломники и путешественники.
И даже некоторые из высоких правителей пользуются от награбленных яств, а посему ни во что не вмешиваются. Все они — опекуны и попечители этих несчитанных даровых денег. Иногда и губернаторы протягивают к ним руку. Нет ни контроля, ни наказания за хищение.
Что касается жителей города, то они озлоблены, можно сказать, ожесточены и при торговых сделках требуют по пять туманов за товар, которому красная цена — туман. При каждом слове они бесстыдным образом клянутся именем святого. Я сам покупал что-то на базаре, и торговец запросил три тумана, а потом с клятвами и божбой уступил мне эту вещь за семь кранов.
Но что хуже всех этих зол — это положение солдат по сю сторону границы. Каждый человек, которому доведется понаблюдать их жизнь, содрогнется от ужаса.
Однажды мы пошли, как обычно, на поклонение. Вдруг я увидел несколько человек в крайне рваной и грязной одежде из грубого холста, цвет которой уже невозможно было распознать. На головах у них были надеты какие-то невообразимые шапки всевозможных фасонов и видов, а пятки покрылись коростой от грязи. Возраста они были самого различного: были тут и пожилые люди лет пятидесяти, и двадцатилетние юнцы, каждый держал в руках ружье.
Я спросил агу сеида:
— Как будто это рабочие, но почему у них ружья?
— Эх, господин любезный, да это ведь правительственные солдаты.