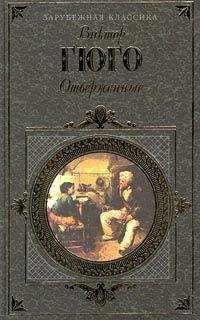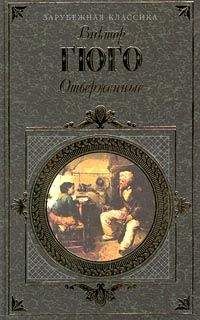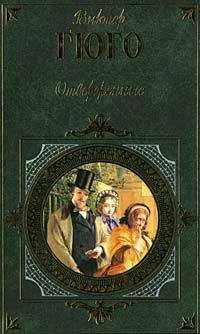— Так вы не умерли! Ну до чего ж вы умный! Я так долго звал вас, что вы вернулись! Когда я увидел ваши закрытые глаза, я сказал себе: «Так! Ну вот он и задохся!» Я помешался бы, стал бы настоящим буйным помешанным, на которого надевают смирительную рубашку. Меня бы посадили в Бисетр. А что мне было еще делать, если бы вы умерли? А ваша малютка? Вот уж кто ничего не понял бы, так это торговка фруктами. Ей сбрасывают на руки ребенка, а дедушка умирает! Что за история! Святители, что за история! Ах, вы живы! Вот счастье-то!
— Мне холодно, — сказал Жан Вальжан.
Эти слова окончательно вернули Фошлевана к действительности, настойчиво о себе напоминавшей. Эти два человека, даже придя в себя, все еще, сами того не понимая, испытывали душевное смятение; в них говорило необыкновенное чувство, порожденное мрачной уединенностью этого места.
— Уйдем скорее отсюда! — воскликнул Фошлеван.
Он пошарил у себя в кармане и вытащил флягу, которой запасся заранее.
— Но сначала хлебните, — сказал он.
Фляга довершила то, что начал свежий воздух. Жан Вальжан отпил глоток и овладел собой.
Он вылез из гроба и помог Фошлевану снова заколотить крышку.
Через три минуты они выбрались из могилы.
Фошлеван был теперь спокоен. Он не спешил. Кладбище было заперто. Неожиданного возвращения могильщика Грибье опасаться было нечего. Этот «юнец» находился у себя дома и разыскивал пропуск, который ему довольно трудно было найти, ибо он лежал в кармане у Фошлевана. Без пропуска вернуться на кладбище он не мог.
Фошлеван взял лопату, Жан Вальжан заступ, и оба закопали пустой гроб.
Когда могила была засыпана, Фошлеван сказал Жану Вальжану:
— Идем. Я возьму лопату, а вы несите заступ.
Дело шло к ночи.
Жану Вальжану нелегко было двигаться и ходить. В гробу он окостенел и сам почти уподобился трупу. Среди четырех гробовых досок им овладела неподвижность смерти. Ему надо было, так сказать, оттаять от могилы.
— Вы закоченели? — спросил Фошлеван. — Как жаль, что я хромаю, а то мы потопали бы ногами, чтобы согреться.
— Пустяки! — ответил Жан Вальжан. — Два-три шага, и я снова научусь ходить.
Они шли теми же аллеями, по которым ехали погребальные дроги. Дойдя до запертых ворот и сторожки, Фошлеван, державший в руке пропуск могильщика, бросил его в ящик, сторож дернул за шнур, дверь отворилась, и они вышли.
— Как все хорошо устраивается! Какая хорошая мысль пришла вам в голову, дядюшка Мадлен! — сказал Фошлеван.
Они беспрепятственно миновали заставу Вожирар. В окрестностях кладбища лопата и заступ служат паспортами.
Улица Вожирар была пустынна.
— Дядюшка Мадлен! — всматриваясь в дома, сказал Фошлеван. — Вы видите лучше моего. Покажите, где номер восемьдесят седьмой?
— Вот как раз и он, — сказал Жан Вальжан.
— На улице никого нет, — продолжал Фошлеван. — Дайте мне заступ и подождите минутку.
Фошлеван вошел в дом, поднялся на самый верх, повинуясь инстинкту, неизменно ведущему бедняка к чердачному помещению, и в темноте постучался в дверь мансарды. Чей-то голос сказал:
— Войдите.
То был голос Грибье.
Фошлеван толкнул дверь. Квартира могильщика, как все подобные ей убогие жилища, представляла собой лишенную убранства каморку. Ящик для упаковки товара — а может быть, гроб — служил комодом, горшок из-под масла — посудой для воды, соломенный тюфяк — постелью, вместо стульев и стола — плитчатый пол. В углу на дырявом обрывке старого ковра сидели, сбившись в кучку, худая женщина и дети. Все в этой жалкой комнате носило следы домашней бури. Можно было подумать, что здесь произошло «комнатное» землетрясение. Крышки с кастрюль были сдвинуты, лохмотья разбросаны, кружка разбита, мать заплакана, дети, по-видимому, избиты; всюду следы безжалостного, грубого обыска. Было ясно, что могильщик совсем потерял голову, разыскивая пропуск, и возложил ответственность за пропажу на все, что находилось в каморке, — от кружки до жены. Всем своим видом он выражал отчаяние.
Фошлеван стремился к развязке, а потому не обратил внимания на печальную сторону своего успеха.
— Я принес ваш заступ и лопату, — сказал он, войдя.
Грибье с изумлением взглянул на него.
— Это вы, поселянин?
— А завтра утром вы получите у сторожа пропуск.
Он положил на пол лопату и заступ.
— Что это значит? — спросил Грибье.
— Это значит, что вы выронили из кармана пропуск, а когда вы ушли, я нашел его на земле; покойницу я похоронил, могилу засыпал, работу вашу выполнил, привратник вернет вам пропуск, и вы не уплатите пятнадцать франков штрафа. Так-то, новичок!
— Благодарю вас, провинциал! — в восторге вскричал Грибье. — В следующий раз за выпивку плачу я!
Глава восьмая.
Удачный допрос
Час спустя, поздним вечером, двое мужчин и ребенок подошли к дому номер 62 по улочке Пикпюс. Старший из мужчин поднял молоток и постучал — это были Фошлеван, Жан Вальжан и Козетта. Оба старика зашли за Козеттой к торговке фруктами на Зеленую дорогу, куда Фошлеван доставил ее накануне. Все эти двадцать четыре часа Козетта провела, дрожа втихомолку от страха и ничего не понимая. Она так боялась, что даже не плакала. Она не ела, не спала. Почтенная фруктовщица забрасывала Козетту вопросами, но та вместо ответа смотрела на нее мрачным взглядом. Козетта ничего не выдала из того, что видела и слышала в течение последних двух дней. Она догадывалась, что происходит какой-то перелом в ее жизни. Она всем своим существом ощущала, что надо «быть умницей». Кто не испытал могущества трех слов, произнесенных с определенным выражением на ухо маленькому, напуганному существу: «Не говори ничего!» Страх нем. Лучше всех хранят тайну дети.
Но когда по прошествии мучительных суток она вновь увидела Жана Вальжана, то испустила такой восторженный крик, что если б его услыхал человек вдумчивый, он угадал бы в нем счастье человека, которого только что извлекли из бездны.
Фошлеван жил в монастыре, и ему были известны условные слова. Все двери перед ним отворились.
Так была разрешена двойная страшная задача: выйти и войти.
Привратник, которому дано было особое распоряжение, отпер служебную калитку со двора в сад, которую еще двадцать лет тому назад можно было видеть с улицы, в стене, в глубине двора, как раз напротив ворот. Привратник впустил всех троих, и они дошли до внутренней, отдельной приемной, где накануне Фошлеван выслушал распоряжения настоятельницы.
Настоятельница ожидала их, перебирая четки. Одна из матерей-изборщиц, с опущенным на лицо покрывалом, стояла возле нее. Робкий огонек свечи освещал, вернее, — силился осветить, приемную.
Настоятельница произвела смотр Жану Вальжану. Особенно зорким был ее взгляд из-под опущенных век.
Затем она стала его расспрашивать:
— Вы его брат?
— Да, матушка, — ответил Фошлеван.
— Ваше имя?
— Ультим Фошлеван.
У него был брат Ультим, давно умерший.
— Откуда вы родом?
— Из Пикиньи, близ Амьена, — ответил Фошлеван.
— Сколько вам лет?
— Пятьдесят, — ответил Фошлеван.
— Чем вы занимаетесь?
— Я садовник, — ответил Фошлеван.
— Добрый ли вы христианин?
— В нашей семье все добрые христиане, — ответил Фошлеван.
— Это ваша малютка?
— Да, матушка, — ответил Фошлеван.
— Вы ее отец?
— Я ее дед, — ответил Фошлеван.
Мать — изборщица сказала настоятельнице вполголоса:
— Он отвечает разумно.
Жан Вальжан не произнес ни слова.
Настоятельница внимательно оглядела Козетту и шепнула матери-изборщице:
— Она будет дурнушкой.
Монахини тихо побеседовали в углу приемной, затем настоятельница обернулась и проговорила:
— Дедушка Фован! Вам дадут второй наколенник с бубенчиком. Теперь нужны будут два.
И правда, на следующий день в саду раздавался звон уже двух бубенчиков, и монахини не могли побороть искушение приподнять кончик покрывала. В глубине сада, под деревьями, двое мужчин бок о бок копали землю — Фован и кто-то еще. Событие из ряда вон выходящее! Молчание было нарушено — монахини сообщали друг другу:
— Это помощник садовника.
А матери-изборщицы прибавляли:
— Это брат дедушки Фована.
Жан Вальжан вступил в должность по всем правилам: у него был кожаный наколенник и бубенчик; отныне он стал лицом официальным. Звали его Ультим Фошлеван.
Главное, что заставило настоятельницу принять его на службу, это ее впечатление от Козетты: «Она будет дурнушкой».
Предсказав это, настоятельница тотчас почувствовала расположение к Козетте и зачислила ее бесплатной монастырской пансионеркой.
Это было вполне последовательно. Пусть в монастырях нет зеркал, но внутреннее чувство подсказывает женщинам, какова их внешность, вот почему девушки, сознающие, что они красивы, неохотно постригаются в монахини. Так как степень склонности к монашеству обратно пропорциональна красоте, то больше надежд возлагается на уродов, чем на красавиц. Отсюда вытекает живой интерес к дурнушкам.