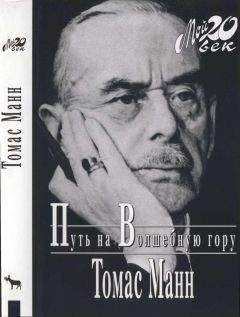Ознакомительная версия.
– Да, я тоже никуда не гожусь, – вставил Христиан, полный зависти и обиды оттого, что Томас говорит только о себе. Он уже совсем было собрался поведать о человеке, кивающем головой, о бутылке со спиртом, о раскрытом окне, когда его брат вдруг поднялся, чтобы пойти взглянуть на отведенные им комнаты.
Дождь не утихал. Он разрыхлял землю, крупными каплями плясал по поверхности моря, отступившего от берегов под напором юго-западного ветра. Все было затянуто серой пеленой. Пароходы, как тени, как корабли-призраки, скользили по волнам и исчезали за блеклым горизонтом.
Приезжие иностранцы появлялись только к табльдоту. Сенатор, в калошах и резиновом плаще, ходил гулять с маклером Гошем, в то время как Христиан в обществе буфетчицы пил шведский пунш наверху, в кондитерской.
Раза два или три, когда казалось, что вот-вот проглянет солнышко, из города приезжал кое-кто из знакомых, любителей поразвлечься вдали от семьи: сенатор доктор Гизеке – однокашник Христиана – и консул Петер Дельман; вид у последнего был прескверный, – он окончательно подорвал свое здоровье неумеренным потреблением воды Гунияди-Янош. Все усаживались в пальто под тентом кондитерской, напротив раковины для оркестра, где уже не играла музыка, переваривали обед из пяти блюд, пили кофе, смотрели на унылый мокрый парк и болтали.
Болтали о последних событиях в городе; о недавнем наводнении, когда вода залила многие погреба и по набережной приходилось ездить на лодках; о пожаре в портовых складах; о выборах в сенат. На прошлой неделе сенатором был избран Альфред Лауритцен, фирма «Штюрман и Лауритцен», оптовая и розничная торговля колониальными товарами; сенатор Будденброк не сочувствовал этому избранию; он сидел, подняв воротник пальто, курил и, только когда разговор коснулся этого последнего пункта, вставил несколько замечаний.
– Уж я-то, во всяком случае, не голосовал за Лауритцена, – сказал сенатор, – в этом можете не сомневаться. Лауритцен – безусловно честный человек и опытный коммерсант, но он представитель средних кругов, добропорядочных средних кругов; его отец собственноручно доставал из бочки маринованные селедки, заворачивал их в бумагу и вручал кухаркам… А теперь владелец розничной торговли избран в сенат! Дед мой, Иоганн Будденброк, порвал со своим старшим сыном из-за того, что тот женился на лавочнице, – да, вот каковы были нравы в те времена! Но требования все понижаются, это чувствуется и в сенате: сенат демократизируется, милейший мой Гизеке, и ничего хорошего в этом нет. Одних коммерческих способностей, с моей точки зрения, недостаточно, здесь следовало бы ставить большие требования. Альфред Лауритцен с его огромными ножищами и боцманской физиономией в зале ратуши! Это оскорбляет во мне какие-то чувства, – какие, я и сам точно не знаю. Есть тут что-то бесстильное – какая-то безвкусица.
Но сенатор Гизеке почувствовал себя задетым. В конце концов и он не более как сын брандмайора!..
– Нет, по заслугам и честь. На то мы республиканцы. А вообще не следует столько курить, Будденброк, эдак вам никакой пользы не будет от морского воздуха.
– Больше не стану, – сказал Томас Будденброк, бросил окурок и закрыл глаза.
Разговор лениво продолжался под шум вновь начавшегося дождя, туманной дымкой затянувшего всю окрестность. Собеседники помянули о нашумевшем в городе скандале – подделке векселей оптовым торговцем Кассбаумом – «П.Филипп Кассбаум и Ко », который сидел теперь под замком. Никто особенно не горячился; поступок г-на Кассбаума называли глупостью, над ним подсмеивались, пожимали плечами. Сенатор доктор Гизеке рассказывал, что упомянутый Кассбаум отнюдь не утратил хорошего расположения духа. Явившись на свое новое местожительство, он тотчас же потребовал, чтоб ему принесли зеркало: «Мне ведь здесь сидеть не годик, а целые годы, без зеркала я не обойдусь». Он, так же как Христиан Будденброк и Андреас Гизеке, был учеником покойного Марцеллуса Штенгеля.
Все рассмеялись, но как-то принужденно и невесело. Зигизмунд Гош заказал еще грогу, таким голосом, словно говорил: «На что мне эта проклятая жизнь!» Консул Дельман потребовал бутылку сладкой водки, а Христиан опять занялся шведским пуншем, который сенатор Гизеке велел подать для себя и для него. Прошло несколько минут, и Томас Будденброк снова закурил.
И опять лениво, небрежно потек скептический, равнодушный разговор, еще более вялый от сытости и спиртных напитков, – о делах вообще и делах каждого в отдельности. Но и эта тема никого не оживила.
– Ах, тут радоваться нечему, – глухо сказал Томас Будденброк и досадливо мотнул головой.
– Ну, а у вас что слышно, Дельман? – зевая, осведомился сенатор Гизеке. – Или вас в данный момент интересует только водка?
– Нет дров – нет и дыма, – отвечал консул. – Впрочем, раз в два-три дня я заглядываю к себе в контору; плешивый на прическу много времени не тратит.
– Да ведь всеми сколько-нибудь прибыльными делами завладели Штрунк и Хагенштрем, – мрачно вставил маклер Гош; он облокотился на стол и подпер рукой свое лицо, лицо старого злодея.
– Кучу дерьма не перевоняешь. – Консул Дельман произнес это так вульгарно, что собеседники даже огорчились безнадежностью его цинизма. – Ну, а вы, Будденброк, еще делаете что-нибудь?
– Нет, – отвечал Христиан, – не могу больше работать. – И без всякого перехода, просто почуяв общее настроение и немедленно ощутив потребность «углубить» его, он заломил шляпу набекрень и заговорил о своей конторе в Вальпараисо и о Джонни Тендерстроме. – «В такую-то жарищу! Боже милостивый!.. Работать? Нет, сэр! Как видите, сэр!» И при этом они пускали дым от папирос прямо в физиономию шефа. Боже милостивый! – Мимикой и жестами он неподражаемо воспроизвел вызывающую дерзость и добродушную распущенность праздных кутил. Брат его сидел не двигаясь.
Господин Гош попытался поднести к губам стакан грога, но тотчас же со злобным шипеньем поставил его на стол, хватил себя кулаком по непокорной руке, снова рванул стакан кверху, пролил половину и залпом, с яростью опрокинул остаток в глотку.
– Подумаешь, какая беда, Гош – руки дрожат, – сказал Дельман. – Вам бы побыть в моей шкуре! Эта проклятая Гунияди-Янош… Я подыхаю, если не выпью положенный мне литр в день, а выпью, – так и вовсе смерть моя приходит. Вот кабы вы знали, что это такое, когда человеку не удается переварить спой обед и он камнем лежит у него в желудке! – И Дельман с препротивными подробностями описал свое самочувствие. Христиан слушал его, сморщив нос, боясь пропустить хоть слово, и, когда тот кончил, немедленно выступил с проникновенным описанием своей «муки».
Дождь снова усилился. Теперь он падал вертикально, густыми струйками, и в тишине слышался только его шум – однообразный, тоскливый и безнадежный.
– Да, жизнь дрянная штука! – заметил изрядно выпивший сенатор Гизеке.
– У меня нет ни малейшей охоты жить на свете, – вставил Христиан.
– Черт с ним, со всем! – воскликнул г-н Гош.
– А вон идет Фикен Дальбек, – сказал сенатор Гизеке.
Фикен Дальбек, владелица молочной фермы, проходя мимо с подойником в руках, улыбнулась сидевшим под тентом господам. Это была женщина лет под сорок, дородная, с вызывающей внешностью.
Сенатор Гизеке уставился на нее осоловелыми глазами.
– Вот грудь так грудь! – протянул он.
А консул Дельман отпустил на ее счет не в меру соленую остроту, на которую остальные отозвались только коротким смешком.
Затем явился кельнер.
– Ну, с бутылкой я управился, Шредер, – объявил Дельман. – Надо когда-нибудь и расплатиться, ничего не попишешь. А вы, Христиан? Ах да, за вас ведь платит Гизеке.
Но тут сенатор Будденброк, все время сидевший молча, с папиросой в углу рта, кутаясь в пальто с высоко поднятым воротником, вышел из своей неподвижности, встал и быстро спросил:
– У тебя нет при себе денег, Христиан? Тогда позволь мне рассчитаться.
Они раскрыли зонтики и вышли из-под тента, чтобы слегка поразмяться.
Время от времени навещала братьев г-жа Перманедер. Тогда они вдвоем с Томасом отправлялись гулять к «Камню чаек» или к «Храму моря», причем Тони Будденброк по каким-то непонятным причинам всякий раз впадала в восторженное и даже мятежное настроение. Она настаивала на всеобщей свободе и равенстве, решительно отвергала сословные различия, ретиво ополчалась на привилегии и произвол, требовала, чтобы всем воздавалось по заслугам, – и тут же начинала рассуждать о своей жизни. Г-жа Перманедер была очень красноречива и превосходно занимала брата. Счастливица! Ей никогда не довелось проглотить, молча стерпеть даже малейшую обиду. Чем бы ни порадовала, чем бы ни оскорбила ее жизнь – она не молчала. Все – каждый проблеск счастья, любое горе – она топила в потоке банальных, ребячески-важных слов, полностью удовлетворявших ее врожденную сообщительность. Желудок ее оставлял желать лучшего, но на сердце у нее было легко и свободно, – она даже сама не подозревала до какой степени. Никакая невыговоренная боль не точила ее; никакое скрытое бремя не ложилось тяжестью на ее плечи. Поэтому и воспоминания прошлого не были для нее мучительны. Она знала, что ей пришлось испытать много дурного и горького, но ни усталости, ни горечи не чувствовала; ей даже с трудом верилось, что так все и было. Но поскольку уж это прошлое было общеизвестно, она использовала его для того, чтобы им хвастаться и говорить о нем с невообразимо серьезной миной. Пылая благородным возмущением, она негодующе выкрикивала имена тех, кто портил жизнь ей, а следовательно, и всему семейству Будденброков, – а таких имен, надо сказать, с годами набралось немало.
Ознакомительная версия.