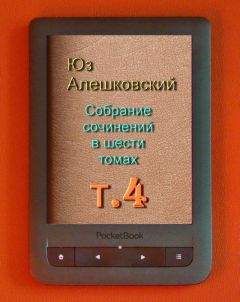Вот какой культурный уровень образовался у нас, дорогие, за шестьдесят лет советской власти. В общем, мы поем, считаем версты, останавливаемся иногда отлить (помочиться) и едем дальше. Выпивать по дороге в Москву после одного инцидента строго запрещено. Разуваев Игнат Иваныч, фрезеровщик, поехал с похмелюги и в автобусе вылакал четвертинку самогона без закуски. По жребию ему выпало идти не в ГУМ, а в мавзолей. Пока сходили вниз, его замутило и вырвало. Хорошо еще, что там заставляют снимать шапки. Игнат Иваныч догадался сблевать в шапку и ухитрился как-то оставить ее в углу у стены. Потом, не глядя на Ильича, юркнул на выход – и бегом, бегом подальше от мавзолея. Отморозил уши и заблудился в Москве. Ждал нас на шоссе два часа. Подобрали мы его почти оцепеневшего от мороза. Он еще легко отделался.
А Федотов вообще упал возле хрустального гроба, зарыдал и забил себя в грудь кулаками. Накипело, видать, что-то в душе. Из партии за это его исключили.
Так что все едут трезвые. Но вот Москва. Задумываюсь, как Кутузов, и принимаю решение, где лучше устроить стоянку: в районе Колхозной площади (там много мясных магазинов и неподалеку Музей Вооруженных Сил), на Ленинском проспекте (есть хороший гастроном с мясом, но никаких музеев) или на Манеже. Рядом Мавзолей, Музеи Ленина, революции, выставка советских художников и в двух шагах от них показ динозавров, бронтозавров и прочих ископаемых в голом скелетном виде. Это – самый интересный музей, но заход в него приравнивается к заходу в магазин и за культурное мероприятие не засчитывается. Обычно я предпочитал стоянку на Манеже, хотя это было сопряжено с риском подвергнуться разговору с милиционерами. Они же прекрасно понимают, что такое экскурсии по ленинским местам, увидят полный сидоров (сумки) с продуктами автобус и начинают, гады, вымогать на бутылку, а не то сообщат в партком, чем мы тут занимались под видом прохода через усыпальницу отца государства.
Продолжайте эту картину представлять на шестьдесят втором году советской власти. Рабочий класс – авангард трудящихся, взявший в семнадцатом году эту власть в руки, но передавший ее по глупости политрукам, рабочий класс – костяк ума, чести и совести нашей эпохи – устраивает в автобусе жеребьевку, кому бежать в ГУМ, а кому для галочки (формальная отметка) торчать в другой очереди – в Мавзолей.
Иногда мы тащили мундштуки от папирос «Прибой» из шапки, но чаще со смехом тараторили считалку: «В нашей маленькой компании кто-то сильно навонял. Раз, два, три, это, верно, ты…»
Везунчики с сидорами направляются после розыгрыша занимать очереди в кассы и в разные отделы, неудачники злобно идут на посещение какого-либо культурного объекта.
Между прочим, был у нас на заводе токарь Столешкин Юрий Авдеич. Лет пять совершал он с нами набеги на торговые точки Москвы и буквально ни разу, я подчеркиваю, ни разу не выпадал ему жребий идти в магазин. Или вытаскивал Столешкин пустой мундштук, или оказывалось, что он в числе других «навонял в нашей маленькой компании». Я уже пробовал, сердечно однажды пожалев Столешкина, предложить ему поменяться и пойти вместо него культурно отрабатывать колбасу, масло и макароны, но он твердо ответил, что всю жизнь стоит за справедливость и будет до конца соответствовать любому своему жребию. Мы уж, смущенные непроворотом такой невезухи Столешкина, пробовали мухлевать со жребиями, подсовывали ему счастливый, перебивали считалку, но жутким каким-то образом, к нашему ужасу и удивлению, Столешкин снова оказывался среди неудачников. С вызывающим душевную боль выражением лица Столешкин покорно выходил из автобуса и, чуть сгорбившись, торопливо, как от очередного пинка судьбы под зад, шел на Красную площадь. О чем уж он думал, следуя мимо «самого живого изо всех прошедших по земле людей», с какими словами к нему обращался, нес ли к нему обиды и вопли о царящей вокруг лжи и несправедливости, или, тупо уткнувшись глазами в чей-то затылок, выплывал в странном людском потоке на поверхность реальной жизни земли, останется неизвестным. Столешкину не раз предлагали не ездить в Москву за жратвой, обещая выполнить все его заказы, однако он отмахивался от товарищеских предложений из упрямства, страсть которого, по-моему, ему самому была непонятна, но от которой не было Столешкину в жизни покоя. Он и лицом как-то постепенно подменялся и на побитую собаку становился похожим, но не запивал, как некоторые на заводе, не бурчал, только однажды беззлобно сказал, неизвестно к кому обращаясь: «Неужто нельзя человеку прожить без бесконечного унижения?»
Семья у Столешкина была огромная. Пятеро детей. Зарабатывал он не меньше других и к тому же глиняных кошек и собак, собственноручно раскрашенных, таскал по субботам на рынок, где его баба ими подторговывала.
Я так подробно о нем вспоминаю, потому что начали мы все из-за его невезухи мучительно и неловко чувствовать себя в поездках за жратвой, в которых действительно было что-то унизительное, и унизительность эту к тому же заостряли навязшие в зубах придорожные призывы: «Больше молока и мяса Родине!», «Выполним и перевыполним планы партии, планы народа!», «Животноводству – зеленую улицу!», «Партия торжественно обещает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!», «Народ и партия едины!», «В ответ на заботу партии о благосостоянии народа – ударный труд!», «Мы живем в первой фазе коммунистической формации! Л.И. Брежнев».
Но лучше ни о чем по дороге в Москву не думать, чтобы не осквернять и без того скверное настроение и не вспоминать старые времена, когда брал ты вечерком кошелку, шел в магазин, набирал того-сего и радовался, что миновала всех военная голодуха, что хоть и не особенно жирно, но достойно и уверенно существовать. Вы бы спросили, дорогие, у своих американских коммунистов: как они представляют себе будущее своей страны? Или они все слепые, как их руководитель, которого нам показывали по телевизору?
В общем, вскоре после заданного пустому пространству вопроса насчет возможности прожить без бесконечного унижения Столешкин повесился. Записку оставил непонятную: «Все вы знаете, почему не могу жить. Прощайте».
Опять пришлось мне отвлечься. Но уж я доскажу, как мы делали голодные набеги на матушку-Москву. Непростое это дело, даже при наличии продовольствия в магазине № 1 нашей Родины, в ГУМе. Я ведь отовариваюсь не только сам для своей семьи, но у меня имеется непременная сочувственная нагрузка набрать продовольственных товаров еще для нескольких семей. В основном мясо, яйца, масло, макароны, треску, если повезет и ее выбросят (продадут), и колбасу «Одесскую», которая три месяца в холодильнике лежит и не портится. Говорят, за ее изобретение академик Несмеянов получил орден Ленина и премию. В общем, набрать надо пуда три, не меньше. А так как за один раз в одни руки больше двух кэгэ мяса с некоторых пор не отпускают и на прочие продукты нормы ввели, то приходится занимать пять-шесть, а то и больше очередей, метаться до седьмого пота от касс к прилавкам и строить к тому же разные рожи, то снимая, то надевая очки, чтобы тебя не узнал продавец и не завопил на весь гастроном: «Спекулянт! Сейчас милицию позову!»
Разве не прав был Столешкин? Разве это не бесконечное унижение? Но здоровье семьи, детей, соседей или товарищей по цеху дороже самолюбия.
Насрать мне на него, если хотите, в таких случаях. Строить рожи, поднимать воротник и надевать очки – легкая придумка. Бабы наши стали парики надевать и менять их тут же – рыжий на черный, шатеновый на седой и так далее. А Брежнев Иван, однофамилец Леонида Ильича, стал таскать из народного театра усы накладные и бородки, которыми в нашей заводской самодеятельности народных артистов загримировывали под Ленина. Пока набегаешься, пока наберешь пуда три жратвы – сердце начинает бухтеть и подкашиваются ноги. Уже с трудом под конец соображаешь, сколько надо платить, лаешься с прохиндейками кассиршами, которые только и смотрят, сволочи, как бы охмурить «пиджака» (провинциала) вроде меня. Часа через три возвращаются из музеев, Мавзолея и выставок остальные. Они сторожат набитые в сторонке авоськи, а мы бегаем по ГУMy, высматриваем кое-что из тряпок и обуви. Москвичи – особенно хреново живущие люди – ненавидят нас, как волков. В очереди прямо в глаза, не стесняясь, говорят, что из-за нас в Москве все пропадать начало к чертовой матери, что живоглоты мы и спекулянты, сами набираем здесь мяса, масла, а у себя дома разводим коров и свиней и возим на рынок продавать по шесть-семь рублей килограмм. Основная проблема при этом не ввязаться в шумный скандал и, не дай бог, в драку, что однажды случилось. Нарымов Жора не выдержал, врезал в печень одному горлодеру с красными от злобы глазами, потом второму – и бежать. Чеки успел в руку мне сунуть. Пока эти два столичных мужичка кряхтели, скрючившись, мы отоварились, сделав вид, что не знакомы со сбежавшим хулиганом. Больше Нарымова на экскурсии уже не брали.