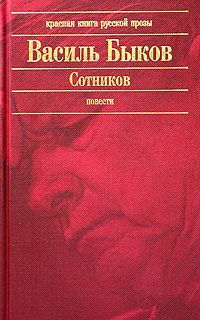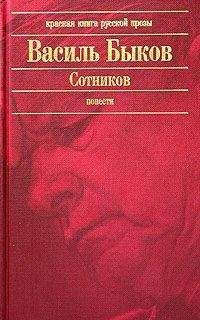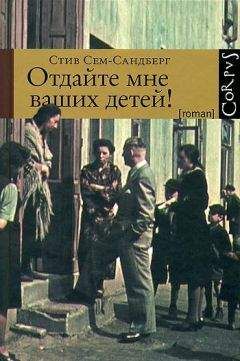Стало тихо, все молчат, один Селезнев сопит да на меня из-под широких бровей поглядывает. А что я могу им сказать? Разве что начать рассказывать с самого начала, кто этот хромой учитель? Чувствую, не могу сейчас много говорить, да и не надо этого. Я только уперся на своем: лагерь менять не следует.
Не знаю, что подумали тогда Селезнев и остальные, поверили в мое голословное заверение или очень уж не хотелось срываться невесть куда с насиженного места, а только намерились рискнуть, выждать с неделю. Решили, правда, выставить два дополнительных дозора — со стороны деревни и возле просеки в логу. И еще послали в Сельцо Гусака, у которого там проживал свояк, надежный, наш человек, чтобы проследить, как оно будет дальше.
Вот от этого-то Гусака и от наших людей из местечка, а потом уже и от Павлика Миклашевича и стало известно, как развивались дальнейшие события в Сельце.
Начинались Будиловичи. Возле крайней хаты за тыном горел электрический фонарь, который освещал калитку, скамейку рядом, голые кусты в палисаднике. Где-то в темноте за сараями яркой рубиновой каплей сверкал костерок, и ветер нес запах дыма — должно быть, жгли листья. Наш возница свернул с дороги, явно намереваясь въехать во двор, конь, словно поняв его, сам по себе остановился. Ткачук недоуменно прервал рассказ.
— Что, приехали?
— Ага, приехали. Я тут распрягу, а вы пройдите немного, у почты остановка.
— Знаю, не первый раз, — сказал Ткачук, слезая с воза. Я тоже соскочил на выщербленный край асфальта. — Ну, спасибо, дед, за подвоз. С нас причитается.
— Не за что. Конь колхозный, так что...
Повозка свернула во двор, а мы, медленно ступая после неудобного сидения на возу, потащились по сельской улице. Тусклый свет фонаря на столбе не достигал следующего, светлые отрезки улицы чередовались с широкими полосами тени, и мы шли, попадая то в свет, то в потемки. Я ждал продолжения рассказа о Сельце, но Ткачук молча топал, прихрамывая, и я не решался торопить его. Где-то впереди затарахтел двигатель, мы посторонились, пропуская трактор на резиновых колесах, который лихо прокатил мимо; свет его единственной фары едва достигал дороги. За трактором впереди стало видно ярко освещенное крыльцо белого кирпичного домика с вывеской сельской чайной. Из ее застекленных дверей неторопливо вышли двое и, закуривая, остановились возле приткнутого к самой обочине ЗИЛа. Ткачук с какой-то новою мыслью посмотрел в ту сторону.
— Может, зайдем, а?
— Давайте, что ж, — покорно согласился я.
Мы обошли ЗИЛ и свернули на небольшой, посыпанный гравием дворик.
— Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какой домище отгрохали. Ей-бо, в этой не был еще, — словно бы извиняясь, объяснил он, пока мы шагали по бетонным ступенькам.
Я смолчал — к чему оправдываться: все мы грешны в этом малопочтенном деле.
Небольшое помещение чайной было почти пустым, если не считать углового столика у печки, за которым непринужденно восседали трое мужчин. Остальные полдюжины легких городских столиков и таких же кресел при них были не заняты. Женщина в синей нейлоновой куртке тихо переговаривалась через стойку с буфетчицей.
— Ты садись. Я сейчас, — кивнул мне на ходу Ткачук.
— Нет, вы садитесь. Я помоложе.
Он не заставил себя уговаривать, сел на первое попавшееся место за ближним столом, напомнив, однако:
— Два по сто, и хватит. И может, пива еще? Если есть.
Пива, к сожалению, тут не оказалось, водки тоже. Было только «Мiцнэ», и я взял бутылку. На закуску буфетчица предложила котлеты — сказала, свежие, только недавно привезенные.
Я подумал, что Ткачуку такое угощение вряд ли понравится. И действительно, не успел я все это донести до стола, как мой спутник неодобрительно сморщился.
— А беленькой не нашлось? Терпеть не могу этих чернил.
— Ничего не поделаешь, берем, что дают.
— Да уж так...
Мы молча выпили по стакану «чернил». Немного еще осталось в бутылке. Закусывать Ткачук не стал, вместо этого закурил из моей мятой пачки.
— Беленькая, она, конечно, подлая, но вкус имеет. «Столичная», скажем. Или, знаешь, еще лучше самодельная. Хлебная. Из хороших рук если. Эх, умели когда-то ее делать! Вкуснота, не то что эта химия. И градус, я тебе доложу, имела, ого!
— А вы что... уважали?
— Было дело! — вскинул он на меня покрасневшие глаза. — Когда помоложе был.
Расспрашивать его насчет того «дела» я не решился — я с нетерпением ожидал продолжения рассказа о давних событиях в Сельце. Но он как будто потерял уже всякий интерес к ним, курил и сквозь дым косо поглядывал в угол, где хорошо подвыпившие мужчины горланили на всю чайную. Они ссорились. Один из них, в ватнике, так двинул столом, что с него едва не слетела посуда.
— Набрались. Того, лысоватого, немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. В партизанку был взводным у Бутримовича. И неплохим взводным. А теперь вот полюбуйся.
— Бывает.
— Бывает, конечно. В войну три ордена отхватил, голова и закружилась. От гордости! Ну и догордился. Трояк уже отсидел, а все не унимается. А некоторые другие потихоньку, помаленьку, орденов не хватали — брали хитростью. И обошли. Обскакали. Вот так. Ну что? Досказать про хлопцев? Почему не спрашиваешь? Эх, хлопцы, хлопцы!.. Знаешь, чем старше становлюсь, тем все милее мне эти хлопчики. И отчего бы это, не знаешь?
Он грузно облокотился на наш шаткий столик, глубоко затянулся сигаретой. Лицо его стало печально-задумчивым, взгляд ушел куда-то в себя. Ткачук умолк, должно быть, как гармонист, настраиваясь на свою невеселую мелодию, что нынче звучала в его душе.
— Сколько у нас героев? Скажешь, странный вопрос? Правильно, странный. Кто их считал. Но посмотри газеты: как они любят писать об одних и тех же. Особенно если этот герой войны и сегодня на видном месте. А если погиб? Ни биографии, ни фотографии. И сведения куцые, как заячий хвост. И не проверены. А то и путаные, противоречивые. Тут уж осторожненько, боком-боком — и подальше от греха. Не так ли ваш брат корреспондент?.. Вот мне, например, непонятно, почему героев, живых или погибших, должны искать пионеры? Пусть бы и те, и другие, и пионеры тоже — это другое дело. А так получается, что розыском героев должны заниматься пионеры. Неужели ребятишки лучше всех разбираются в войне? Или настырности у них побольше — легче к важным дядям достучаться? Я вот не понимаю. Почему это взрослые дяди не заботятся, чтобы не было этих самых безвестных? Почему они умыли руки? Где военкоматы? Архивы? Почему такое важное дело передоверено ребятишкам?..
Да. А в Сельце дела стали плохи. Ребят заперли в амбар старосты Бохана. Был там такой мужик, возле сухой вербы хата стояла, теперь уже нету. Хитрый, скажу тебе, мужичок: и на немцев работал, и с нашими знался. Ну а такое, знаешь же, чем обычно кончается. Что-то заприметили немцы, вызвали в район и назад уже не вернули. Говорят, в лагерь отправили, где-то и загнулся старик. Так вот, сидят ребята в амбаре, немцы таскают в избу на допросы, бьют, истязают. И ждут Мороза. По селу распустили слух, что вот-де как поступают Советы: чужими руками воюют, детей на заклание обрекают. Матери голосят, все лезут во двор к старосте, просят, унижаются, а полицаи их гонят. Николая Смурного мать, как самую горластую, тоже забрали за то, что на немца плюнула. Другим угрожают тем же; правда, ребята держатся твердо, стоят на своем: ничего не знаем, ничего не делали. Да разве у этих палачей долго продержишься? Стали бить, и первым не стерпел Бородин, говорит: «Я подпиливал. Чтобы душить вас, гадов. Теперь расстреливайте меня, не боюсь вас».
Он взял все на себя, наверно думал, что теперь от остальных отвяжутся. Но и эти холуи не круглые идиоты — скумекали, что куда один, туда и остальные. Мол, все заодно. Начали бить еще, вытягивать новые данные и про Мороза.
Про Мороза особенно старались. Но что ребята могли сказать про Мороза?
И вот в эту самую пору, в разгар пыток является сам Мороз.
Произошло это, как потом рассказывали, раненько утром, село еще спало. На выгоне легонький туманчик стлался, было нехолодно, только мокровато от росы. Подошел Алесь Иванович, видать, огородами, потому как на улице, у крайней избы, сидела засада, а его не заметила. Должно быть, перелез через изгородь — и во двор к старосте. Там, конечно, охрана, полицай как крикнет: «Стой, назад!» — да за винтовку. А Мороз уже ничего не боится, идет прямо на часового, прихрамывает только и спокойно так говорит: «Доложите начальству: я — Мороз».
Ну, тут сбежалась полицейская свора, немцы скрутили Морозу руки, содрали кожушок. Как привели в старостову хату, старик Бохан улучил момент и говорит так тихонько, чтоб полицаи не услышали: «Не надо было, учитель». А тот одно только слово в ответ: «Надо». И ничего больше.
Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Я так думаю, что именно из-за нее столько лет мариновали Мороза и столько сил стоило все это Миклашевичу. Дело в том, что, когда в сорок четвертом турнули наконец немчуру, в местечке и в Гродно остались кое-какие бумаги: документы полиции, гестапо, СД. Бумаги эти, разумеется, были кем следует разработаны, приведены в порядок. И вот среди разных там протоколов, приказов оказалась одна бумажка касательно Алеся Ивановича Мороза. Сам видел: обыкновенный листок из школьной тетрадки в клетку, написанный по-белорусски, — рапорт старшего полицейского Гагуна Федора, того самого Каина, своему начальству. Мол, такого-то апреля сорок второго года команда полицейских под его началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Алеся Мороза. Все это сплошная липа. Но Каину она была нужна, да и его начальству, наверно, тоже. Взяли ребят, а через три дня поймали и главаря банды — было чем похвалиться старшему полицаю. И ни у кого никакого сомнения насчет правдивости рапорта.