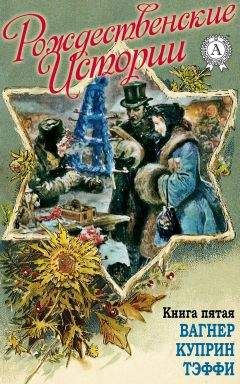— Ах, терпеть не могу! Я же знал, что скоро приду и что ты будешь рада. Ведь ты рада?
Она была рада…
И много раз приходил он так и уходил всегда неожиданно. И уходя, не оставлял никакого знака, никакого следа своего пребывания. Он иногда курил, но ни разу не находила Наташа окурка в пепельнице. Неужели он уносил их с собой? Он не написал ей ни разу ни одной записки.
Иногда ей казалось, что его вообще нет на свете, что она сама его придумала.
Приходил, уходил. Иногда оставался у нее по два и даже по три дня, иногда полчаса и уходил дней на пять.
Так перебоями, как больное сердце, билось ее странное счастье.
Были минуты, о которых она много думала потом, когда наступили беспощадные дни ее жизни. Была одна ночь. Вся в снах, неуловимых и тоскливых. И от тоски этих снов проснулась Наташа и с плачем обняла своего теплого сонного мальчика и по-русски, по-бабьи, запричитала над ним:
— Мука ты моя, любимый мой! Ничего я о тебе не знаю. Откуда ты? Кто ты? Куда тянешь меня? И спрашивать не хочу. И знать не хочу — только больнее будет, потому что все равно уйти от тебя не смогу.
Гастон лежал тихо. Ей показалось, что он что-то понял… Он повернул к ней лицо, бледное в мутном рассвете, и сказал:
— Вы очень нервная, Наташа. Зачем вы плачете? Я знаю, что вы меня очень любите и никогда не оставите и, если нужно будет, поможете во всем. Вы моя настоящая подруга, какая мне была нужна.
И еще вспомнила она свой истерический порыв.
Был душный вечер. Они сидели рядом, обнявшись, не зажигая огня, сладкий и томный запах его духов, всегда беспокойный, к которому привыкнуть нельзя, и тонкий золотистый аромат ветерка, падавший откуда-то сверху, точно это был запах звезд, — волновали горько и страстно.
— Мальчик мой, — сказала Наташа.
Она называла его «Госс», выходило что-то вроде сокращения от Гастона.
— Мальчик мой! Хочешь, мы расскажем сегодня друг другу всю свою жизнь, все без утайки. Откроемся друг другу до дна, и это соединит нас. Я никому о себе не рассказывала. Я в первый раз в жизни хочу отдать себя всю. А ты хочешь?
— Да. Хочу, — ответил он равнодушно.
Она крепко прижалась к нему и, закрыв глаза, стала исповедоваться…
— Теперь ты расскажи мне о себе. Все. Понимаешь? Так же, как я.
— Хорошо, — сказал он, потянулся к столу, закурил и начал:
— Отец мой был выходцем из Америки и женился на датчанке, княжеской крови…
Наташа дальше уже не слушала. Она горько смеялась, глотая слезы, гладила его по голове и шептала прерывающимся голосом:
— Да, да, мой мальчик, да… княжеской крови… Я слушаю тебя… рассказывай… да, да!..
Он долго тянул какую-то ерунду о каком-то миллионном наследстве, о какой-то испанской графине, влюбившейся сначала в его отца, потом в него самого…
— Да, да, — повторяла Наташа, сжимая себе горло рукой, чтобы не разрыдаться громко. — Бедный мой, заблудившийся мальчик! Да… да…
И еще вспоминала она разговор в ресторанчике за завтраком.
День был серенький, спокойный. За окном дрожал мелкий невидимый дождь.
Два красных квадратных француза ели телячьи головы. Меланхолический лакей в грязном переднике смотрел на облака и не отзывался на оклик.
Все было так просто, буднично, бестревожно. И тот ужасный вопрос, который Наташа готовила столько дней и ночей, вдруг прозвенел так спокойно, естественно и просто, что она сама удивилась.
— Скажи, мальчик, — у тебя так много всяких знакомых, — не встречал ли ты русскую баронессу Любашу Вирх?
Гастон лениво переспросил:
— Кого?
— Любашу Вирх.
— А какая она?
— Немолодая… очень раскрашенная, рыжеватая…
Он пожал плечами.
— Дорогая моя, я столько видал всей этой шушеры, всех этих русских poules [21], что, право, даже не помню, у какой из них какая рожа. Но имени, которое ты назвала, я, кажется, не слыхал. Верно, что-нибудь не особенно значительное.
Они уже заговорили о другом, но Наташе захотелось снова вернуться к той же теме. Слишком долго думала она о ней, слишком много представляла себе этот разговор, чтобы не насытиться вдоволь преодоленным и нестрашным. Так ребенок, долго боявшийся погладить кошку, потом, радостно смеясь, тянется еще и еще.
— Скажи, Госс, ты вообще не любишь женщин этой категории?
— Проституток? Нет, не люблю, — ответил он лениво. — Это же скучно. Вообще всякое ремесло скучно. Я лентяй, сам не люблю работать и даже не люблю смотреть, как другие работают. Мне за них лень.
— Да, мне тоже казалось, — продолжала Наташа, все не желая отходить от темы. — Мне казалось, что эти продажные женщины неинтересны.
Он улыбнулся странно, как-то снисходительно и в то же время злобно:
— Да, когда они продаются, они неинтересны. В этом ты права. Но если сможешь заставить такую женщину полюбить…
У него голос пресекся, так что он даже дотронулся до горла.
— …Заставить полюбить, то нет в мире счастья, равного тому блаженству, которое она может дать!
Он чуть-чуть побледнел, словно сразу осунулся, и на лицо его медленно наплывало то выражение удивления и восторга, которое Наташа видела у него, когда он играл Рахманинова.
— Ты… — пролепетала Наташа, — ты… зна… знаешь это?
Он обернулся к ней, точно не сразу понял, кто с ним говорит.
— Я? Нет, нет. Я ровно ничего не знаю.
Этот разговор она потом, в другие дни вспоминала чаще всего.
Думая о Любаше, ища ее в жизни Гастона, Наташа не ревновала его и не ревность заставила ее задать наконец мучивший ее вопрос. Этого горького хлеба она еще не вкусила, он еще хранился где-то на полочке…
Одно волновало ее — все одно и то же: уловить нити, найти, понять, узнать, кто ее любовник. Не для того, чтобы успокоиться, — пусть он даже окажется беглым каторжником. Просто хотела из тумана тревог, догадок и подозрений выйти наконец на определенную дорогу и идти по ней с открытыми глазами — на позор, на гибель, но видеть и знать все.
А он приходил неведомо когда, уходил бесследно, как галлюцинация.
После его болезни повелось так, что он сразу ложился, а она хлопотала вокруг него, поила его чаем, бегала за папиросами. Сначала потому, что он действительно был слаб, потом — вошло в обычай.
Нехороший обычай.
Люди часто не представляют себе, какое огромное значение в их взаимоотношениях имеет та или другая «обычная поза». Как она отражается в самых тайных глубинах души.
Мужчина, ходящий большими шагами по комнате, заложив руки за спину и круто поворачиваясь на каблуках, какую бы ахинею он при этом ни нес, — он диктует свои директивы, он умница, а тот, кто сидит и слушает, — его душевная поза — приниженность, внимание, робкое любование.
Человек лежит на диване и говорит томно:
— Передайте мне, пожалуйста, спички.
Другой идет за спичками, приносит, подает, если уронит — поднимает. Он служит первому, нежному, хрупкому, будь тот хоть девяносто кило весу, с бычьей шеей.
Человек сидит в кресле, заложив ногу за ногу, чуть-чуть этой заложенной ногой покачивает, медленно затягивается папироской, отпятив вбок подбородок.
Другой — вертится на стуле, вскакивает, ерошит волосы, путает слова.
Душевная поза первого: спокойный, мудрый джентльмен, для которого вопрос давно ясен.
А между тем именно сумбурная беспокойная путаница в его тупой башке так поджаривает пятки его умного и дельного партнера.
И не думайте, что дело здесь просто и чисто внешне.
Нет. У нас есть глубокая психологическая привычка искать за формой обычного для нее содержания, и мы непременно должны сделать некое усилие, «дерзнуть», разбить эту форму, отбросить ее, если почуем, что она лжива, и всегда идем на это «дерзание» с трудом и неохотой.
Если вы встретите осанистого старика с великолепной бородой, мудрыми бровями и репутацией крупного общественного или государственного деятеля — как трудно, как до жестокости тяжело будет вам признать, что перед вами просто старый дурак…
Но — довольно об этом.
Гастон всегда валялся. Наташа вокруг него суетилась.
Раздражение является атмосферой всей общественной жизни там, где нет Бога.
Фр. Мориак.
Ум большинства женщин служит им больше для того, чтобы защищать их выдумки, нежели доводы разума.
Ларошфуко.
В мастерской начались новости: манекен Вэра укатила в отпуск, прихватив с собой без спроса несколько платьев и купальных костюмов. Прислала из Жуан-ле-Пен довольно наглое письмо, что она это сделала в интересах фирмы, так как будет демонстрировать туалеты на пляже.
Мадам Манель, которая рассчитывала на эти вещи для подготовлявшейся дешевой распродажи, очень расстроилась, а от наглости Вэра даже растерялась.