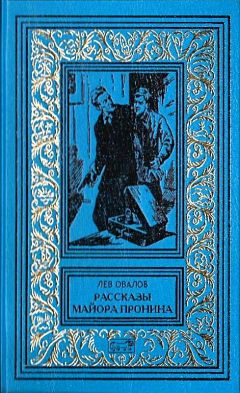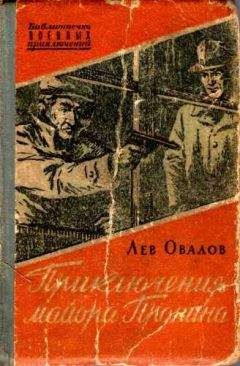Она настаивала на том, чтобы я поехал к Эдингеру в тот же день, да я и сам понимал, что не стоит откладывать посещения.
Гестапо занимало многоквартирный шестиэтажный дом, и в комендатуре было полно штурмовиков, они пренебрежительно оглядели меня, точно я зашел туда по ошибке.
Я подошел к окошечку, где выдавались пропуска.
– Мне нужно к господину Эдингеру, – сказал я и протянул паспорт.
– Обергруппенфюрер не принимает латышей, – грубо ответил мне какой-то надменный юнец. – Проваливайте!
Это было необычно для немцев: с теми, кто был им нужен, они обращались вежливо, по-видимому, комендатура не была предупреждена обо мне.
Мне с неохотой позволили позвонить по телефону. Я попросил соединить меня с Эдингером, и его секретарь, как только я себя назвал, ответил, что все будет немедленно сделано.
Действительно, не прошло нескольких минут, как тот самый юнец, который предложил мне убираться, выскочил из-за перегородки с пропуском, отдал мне честь и предложил проводить до кабинета обергруппенфюрера.
Мы поднялись в лифте, и, когда я со своим провожатым шел по коридору, навстречу мне попались два эсэсовских офицера в сопровождении человека без знаков различия, но тоже в черном мундире, рукав которого украшала устрашающая эмблема смерти – череп и две скрещенные кости.
Человек показался мне знакомым; потом я решил, что ошибся; я посмотрел внимательнее и узнал Гашке, того самого Гашке, вместе с которым лежал в госпитале.
Он шел позади офицеров, с коричневой папкой под мышкой, важный, сосредоточенный, ни на что не обращающий внимания, настоящий самодовольный гитлеровский чиновник.
Я пристально смотрел на Гашке, меня интересовало, узнает ли он меня, но он кинул на меня равнодушный взгляд и прошел мимо с таким видом, точно мы с ним никогда до этого не встречались.
Мы вошли в приемную, мой провожатый откозырял секретарю, и меня без промедления попросили зайти к обергруппенфюреру.
Эдингер со своими рыжими прилизанными волосами и черными усиками выглядел все так же смешно, как и на вечере у профессора Гренера, в нем не было решительно ничего страшного, хотя в городе о нем рассказывали всякие ужасы, говорили, что он пытает людей на допросах и собственноручно «обезвреживает» коммунистов, что на языке гитлеровцев было синонимом слова «убивать».
Эдингер был воплощенной любезностью.
– Прошу вас… – Он указал мне на кресло. – Перед вашим приходом я читал нашего дорогого фюрера, – торжественно сообщил он. – Какая книга!
Я было подумал, что он паясничает, но на его столе действительно лежала гитлеровская «Моя борьба», и пухлое лицо Эдингера выражало самое подлинное умиление.
В течение некоторого времени он вел себя как базарный агитатор: выражал восторги по адресу фюрера, говорил о заслугах национал-социалистской партии, восхищался будущим Германии…
Но, воздав богу богово, он сразу перешел на фамильярно-деловой тон:
– Вы позволите… – Он на мгновение замялся. – Вы позволите не играть с вами в прятки?
– Прошу вас, – ответил я ему в тон. – Я сам стремлюсь к полной откровенности.
Эдингер просиял.
– О господин Блейк! – воскликнул он. – Для германской разведки не существует тайн.
Я сделал вид, что поражен его словами; человек менее самовлюбленный, чем Эдингер, возможно, заметил бы, что я даже переигрывал.
– Ничего, ничего, не огорчайтесь, – добродушно промолвил Эдингер и похлопал меня по плечу. – Мы умеем смотреть даже сквозь землю!
Я вежливо улыбнулся.
– Что ж, это делает честь германской разведке.
– Да, милейший Блейк, – самодовольно продолжал Эдингер. – Мы знали о вас в те дни, когда Латвией управлял Ульманис, наблюдали за вами, когда Латвия стала советской, и, как видите, нашли, когда сделали Латвию своей провинцией. Еще никому не удалось от нас скрыться.
На этот раз я не улыбнулся, напротив, старался смотреть на своего собеседника возможно холоднее.
– Что вы хотите всем этим сказать? – спросил я. – Допустим, вам известно, кто я, что же дальше?
– Только то, что вы в наших руках, – произнес Эдингер менее уверенным тоном. – Когда солдат попадает в плен, это на всех языках называется поражением.
– Неудача отдельного офицера не есть поражение нации, – возразил я с холодной вежливостью. – Не забывайте, что я разведчик, а разведчик всегда готов к смерти. Такова наша профессия: поражать и, увы, всегда быть готовым к тому, что могут поразить и тебя самого.
Я понимал, что все, что я говорил, было в известной степени декламацией, но я также понимал, что декламация производит впечатление не только на сцене.
– Мне приятно, что вы это понимаете, – удовлетворенно сказал Эдингер. – В таком случае поговорим о стоимости выкупа.
Я выпрямился в своем кресле.
– Я еще не продан и не куплен, господин Эдингер!
– Неужели вы не боитесь смерти? – вкрадчиво спросил меня мой собеседник. – Поверьте, смерть – это небольшое удовольствие!
– Английский офицер боится только бога и своего короля, – ответил я с достоинством. – А с вами мы, господин Эдингер, только коллеги.
– Вот именно, вот именно! – воскликнул Эдингер. – Именно потому, что я считаю вас своим коллегой, я хочу не только сохранить вам жизнь, но и позволить вам продолжать свою деятельность!
Я настороженно прищурился.
– А что вы от меня за это потребуете?
Эдингер серьезно посмотрел на меня.
– Стать нашим агентом.
Конечно, я понимал, каково будет предложение Эдингера… Другого не могло быть! Разоблаченный разведчик либо перевербовывается, либо умирает… Понимал это и мой собеседник, а говорил со мной потому, что заранее был уверен в ответе. Речь шла только о цене. Эдингер мерил Блейка на свой аршин; думаю, что сам Эдингер в подобных обстоятельствах предпочел бы измену смерти.
Что ж, мне приходилось поступиться честью мистера Блейка, хотя позу, принятую в этом разговоре, следовало сохранить!
– Вы должны меня понять, господин Эдингер, – сдержанно произнес я. – Я не могу действовать во вред своему отечеству…
– От вас этого и не требуют, – примирительно сказал Эдингер. – Нам просто нужны сознательные английские офицеры, которые понимают, что Англии не по пути с евреями и большевиками. Мы сумеем переправить вас в Лондон, хотя там должны думать, что вы самостоятельно и вопреки нам героически преодолели все препятствия. Вы будете продолжать свою службу и снабжать нас информацией.
Это было необыкновенно благоприятное стечение обстоятельств: советского офицера принимали за агента английской секретной службы и предлагали поступить на службу в немецкую разведку; я мог оказаться полезен нашему командованию, но это благоприятное стечение обстоятельств сводилось на нет тем, что у меня не было еще возможностей связаться со своими…
Пока что оставалось одно: до поры до времени изображать из себя Берзиня, Блейка и кого только угодно, заставить окружающих меня людей думать, будто я одержим всякими колебаниями, дождаться удобного момента, пойти на любую мистификацию и перебраться через линию фронта…
– Господин Блейк, я жду, – внушительно сказал Эдингер. – Не заставляйте меня повторять лестное предложение, о котором известно даже рейхслейтеру Гиммлеру.
– Но это так неожиданно, – неуверенно произнес я. – Я должен подумать…
– Не стоит выбирать между дворцом и тюрьмой, – перебил меня Эдингер.
– Все же я должен подумать, – твердо возразил я. «Пусть Эдингер, – иронически подумал я, – не воображает, что так просто купить английского офицера!»
Эдингер испытующе смотрел на меня своими оловянными глазами.
– Ну а что будет иметь в результате всего этого ваш покорный слуга? – деловито осведомился я. – Для того чтобы жить, надо еще кое-что иметь. Что мне даст эта… переориентировка?
– Нас никто еще не упрекал в скупости, – гордо сказал Эдингер. – Ваши расходы по сбору информации будут регулярно оплачиваться.
– В какой валюте? – цинично спросил я.
– В рейхсмарках, конечно, – заявил Эдингер. – Это не так плохо!
– Но и не так хорошо, – пренебрежительно возразил я. – Марка обесценена…
– Пусть в фунтах или в долларах, – сразу согласился Эдингер и поспешил добавить: – А после окончания войны назначенное нами английское правительство предоставит вам высокий пост.
Он говорил вполне серьезно, этот ограниченный человек, и, как мне кажется, верил в то, что говорил, и не сомневался в моем согласии.
Но я подумал, что мне выгодно затянуть торговлю: в глазах немцев это укрепит позиции Блейка, а майора Макарова сделает еще недосягаемее.
– Все же я настоятельно прошу вас, господин обергруппенфюрер, – сказал я, – дать мне какое-то время.