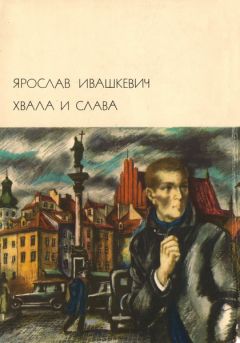— А теперь?
— А теперь нет. Теперь даже люблю. У нас ведь столько общих воспоминаний. Одно только странно — до чего мы разные люди. Просто удивительно, что брат и сестра могут быть до такой степени непохожи друг на друга.
— Я в отца, а ты в мать, — тихо и как-то задумчиво сказала Билинская.
— А ты хорошо помнишь маму?
— Нет, словно в тумане, — через минуту, подумав и, очевидно, воскрешая в памяти черты покойной, сказала Марыся. — Я была уже довольно большой девочкой, когда ты родился, но меня все время окружали гувернантки, учительницы… Я мало ее видела. Обедала я всегда в детской, — с горечью добавила она. — Но помню, что мама была красивая, высокая, стройная, с такими же чертами, как у тебя. Брови чуть-чуть вразлет, и точно такой прямой короткий нос. Рот, кажется, был другой. Помню ее и в гробу…
— Она была темная, как я, — заключил Януш.
— Да. А почему ты спросил о ней?
— Лучше сейчас, чем никогда. Мы же никогда не говорили о матери.
Марыся горько засмеялась.
— Мы вообще никогда ни о чем не говорили, — заметила она. — Очевидно, ты считаешь меня слишком глупой, чтобы я могла тебя понять.
— Слишком глупой?
— Мне кажется, что Зося была не умнее меня, но с нею ты мог разговаривать.
— К сожалению, тоже недолго, — вздохнул Януш.
Марыся зашевелилась в постели, как будто оперлась на локоть. С минуту слышался далекий хор мандолин и гитар.
— А почему ты, собственно, женился на Зосе? — спокойно спросила Марыся. — Скажи откровенно.
— Знаешь, я и сам не знаю, — сразу, без малейшей паузы ответил Януш. Подобная формулировка не требовала никаких усилий.
С минуту они помолчали. Наконец веселые марши смолкли и послышались вступительные гитарные переборы — перед песней.
— О, только бы они не пели! — взмолилась Билинская.
— А ты знаешь, шофер мне сказал, что Памплона уже окружена басками.
— Ну, ничего, утром мы будем в Бургосе. Там нас не захватят.
— Однако ты смелая, — вздохнул Януш.
— Ты забываешь, что я пережила двадцать лет назад… Нам как-то удалось разминуться с ними по дороге сюда, — снова начала Билинская, потому что Януш явно собирался спать. Он глядел в синие окна и слушал приближающийся звон гитары. Неожиданно он заговорил спокойно и тихо, постепенно оживляясь.
— Мы никогда не говорили с тобой откровенно. Ведь по сути дела мы с тобой в чисто светских отношениях. Ты никогда не говорила мне, ни разу, за всю нашу молодость… и потом… никогда не сказала мне того, что сестры обычно говорят братьям. Что Эльжуня говорила Эдгару. Ты никогда не говорила, что ты думаешь обо мне. А ведь что-то ты ведь должна была думать. Никогда не говорила, что ты думаешь о моем хозяйстве, — даже об этом. А ведь это ты купила мне Коморов. Наверно, для того, чтобы с чистой совестью распорядиться остальной частью денег. Но ты купила мне Коморов… вместе с Зосей. Я купил ее, как Поланецкий Марыню{143}… Ты и тогда мне ничего не сказала. Ведь я же бесплодный, ненужный, бесполезный отпрыск, последнее ответвление нашего рода, нашего класса… Это Янек Вевюрский мне вспомнился и вся «поэзия пролетариата»… Ты же видишь, что я трачу себя, что разлагаюсь, пью, месяцами сижу в Коморове праздно и бездумно… и ты ничего никогда мне не говорила. У меня никогда не было матери, а ты моя старшая сестра, ты же гораздо старше, и хорошо знаешь… хотя делаешь вид, что не помнишь… хорошо знаешь, насколько ты старше. Ты могла бы заменить мне мать. Ты знала, что отец меня не выносит. Матери у меня не было. А ты ко всему этому была безучастна, равнодушно скользила по мне взглядом, как по прохожему на улице. Ты презирала мою жену… так как она не была «quelqu’un»[106]. И теперь в испанской деревушке, среди этой черной ночи, ты вдруг осмеливаешься спросить: почему я женился на Зосе? Ты не имеешь ни малейшего морального права спрашивать меня о Зосе… — И после паузы он добавил: — Я же никогда не спрашивал тебя о Казимеже.
Последние слова он выпалил громко и с жаром. Из-за ширмы донесся до него какой-то звук, словно кто-то скреб ногтем по стене. Может, Марыся таким образом выражала свое раздражение?
— Ты спишь? — спросил он.
— Нет, — ответила она кратко и отчетливо, самым спокойным голосом. И, помолчав, добавила: — Семейные отношения можно понимать по-разному. Мне кажется, что ни один человек bien elevee [107] не имеет права влезать в калошах в душу другого человека. Я всегда стараюсь быть тактичной. Никогда никому не задаю ненужных вопросов. И я действительно не знаю, что это вдруг на меня нашло, почему я задала тебе этот совершенно ненужный вопрос.
Януш язвительно рассмеялся.
— Ты верна себе, «княгиня Билинская», bien elevee. Иногда я подозреваю, что сердце у тебя вообще превратилось в carnet mondain[108], куда записаны даты приемов и дни рождений или именин. Ну, разумеется, и сроки резания купонов, об этом забывать нельзя. И все же что-то тебя еще беспокоит: лучшее доказательство — то, что ты спросила меня о Зосе. Ты хотела узнать, любил ли я? Да, я любил Зосю, любил, любил, хотя всем вам это кажется невероятным.
— Ты зря горячишься, — спокойно откликнулась Марыся. Видимо, самообладание уже вернулось к ней.
В этот момент гитара звякнула под самым окном, и вдруг зазвучала горестная жалоба. Пел юношеский баритон поразительно сладкого тембра. Голос напрягся и взвился, ниспадая головокружительно трудными мелизмами. Певец был где-то совсем рядом, казалось, он находился в этой самой комнате. Но вот он оборвал песню так же неожиданно, как и начал. Послышались шаги, и гитара зазвенела уже где-то в отдалении.
— Удивительная ночь, — сказал Януш.
Оба помолчали.
— И я вовсе не горячусь, — снова начал он, — меня только страшно раздражает твоя сдержанность. Ты всегда бываешь сдержанна, всегда, всю жизнь, как только дело касается моей особы. Ты считаешь, что я вульгарен.
— Что это на тебя нашло, Януш? — довольно неуверенным тоном спросила Марыся.
— Нашло… Ты всегда меня ненавидела. Может быть, за то, что я мужчина…
— Тоже мне мужчина.
— Ого, кусаешься?!
— А ты меня… любил, — заключила Марыся.
— Не будем об этом.
— А ты задумывался над моей жизнью? Знаешь ли ты хоть сотую часть того, что я знаю о тебе? Ты хоть раз пытался облегчить мое положение? Интересовался когда-нибудь тем, что я переживаю, depuis toujours, depuis cette nuit terrible…[109] Протянул ли ты мне хоть раз братскую руку? О, не думай, что я этого ждала. Je savais que c’etait impossible… [110]…Я знала тебя, знала куда лучше, чем ты меня. А ты и понятия не имел о моей жизни, начиная с моей свадьбы. Билинский… Ты же ничего не знаешь о Билинском…
Януш обронил так, точно улыбнулся в темноту:
— Никто ничего не знает о Билинском.
— Никто ничего не знает о Билинском… и обо мне, — продолжала Марыся. — Гораздо хуже, что никто ничего не знает о Билинской.
— Ты сама постаралась об этом.
— Да, я скрывала свою жизнь. А ты хоть раз задумался о том, что это была за жизнь? Сколько мне пришлось намучиться?
— Потому что ты наложила на себя какие-то ложные путы.
— Что ты имеешь в виду?
— Ты должна была сразу выйти замуж за Спыхалу.
— Как ты все легко решаешь. Пока была жива княгиня Анна, я не могла. А потом… О, как эта старуха меня обошла! Она ведь знала, что я буду опасаться опекунства графини Казерта.
— Я не понимаю всех этих терзаний.
— Вот-вот. Ты должен был хоть раз в жизни сказать мне, что не понимаешь всех этих терзаний.
— Говорю об этом сейчас.
— Немного поздновато, — саркастически заметила Марыся.
— Как будто ты бы меня послушала!
— Разумеется, нет. Но хотя бы знала, что кто-то думает обо мне, проявляет внимание… решает, как я должна поступить. Что кто-то, кроме меня самой, думает о моей жизни. А ты никогда и не подумал о моей жизни. Вот в чем я могу тебя упрекнуть, вот что я хотела тебе сказать. Больше ничего.
— Совершенно то же самое, что и я тебе. Ты тоже не задумывалась над моей жизнью.
— Я купила тебе Коморов, значит, задумывалась, как тебе жить. Я знала, что ты без оранжереи не проживешь.
— Как я это должен понимать?
— Как хочешь. Но ты не можешь отплатить мне той же монетой. У меня была своя тяжелая и постыдная жизнь, я должна была избегать взгляда Алека. И все же сумела подумать о тебе…
— Одним словом, ты лучше меня, — раздраженно сказал Януш, вылез из постели и пошел в пижаме к окну, спотыкаясь о мебель на покатом полу.
— Осторожнее, вывалишься из окна, — сказала Марыся, — пол тут ужасный.
— Если и упаду, мир вверх дном не перевернется.
— К сожалению, еще ни одна человеческая смерть не заставила мир переворачиваться вверх дном.