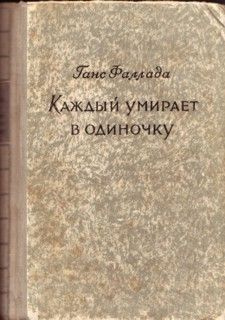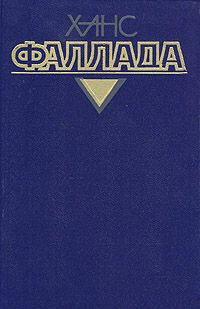Гость покупает для нее ликер и пиво, он даже разоряется на третий стаканчик спиртного. Ему хочется ее расшевелить, сам он уже сильно на взводе. Но это — пропащие деньги, ее ничем не взбодришь. Она показывает ему открытку.
— Мой отец, — говорит она с гордостью.
— Видать, не повезло тебе, — говорит он и тупо смотрит на открытку. Он не может взять в толк, что за открытка и какое отношение к ней имеет эта шлюха.
— Что ты нос повесила? — сердится он. — За мои деньги могла бы не киснуть. Эй, хозяин, брось-ка монету в аккордеон. Давай, девушка, станцуем.
И так как она по-прежнему глаз не сводит с открытки, он хватает и рвет ее. И тут Эва давай реветь, и царапаться, и хныкать, а потом опять реветь, пока не пришел шупо и не отвел обоих в участок.
Итак, еще одна душа вспомнила старика Хакендаля, отправившегося в далекое путешествие. Но и она не бог весть какая для него опора. Быть может, это из-за ее дум загляделся он при въезде в город на высокие мрачные стены. Но мысль об Эйгене Басте, в некотором роде зяте Хакендалей, ни на секунду не приходит ему в голову.
«Больница, — соображает он. — А может, и острог. Но кому понадобилась такая большая тюрьма в этом захолустье. А впрочем, как сказать!.. На дворе уже глухая ночь. Надо поторапливаться, как бы нам с Гразмусом не пришлось ночевать на улице. Да еще в такой холод. Вот уж верно, что весенняя погода ненадежна. Лапы у меня застыли. Ничего. В Париже отогреюсь…»
Он едет дальше…
Но и еще один человек болеет душой за старика и желает ему всего самого хорошего.
Молодой Грундайс мог бы уже в пять часов уйти домой, его статья давно набрана и заматрицирована. Он даже успел прочитать корректуру, и, конечно же, его детище искромсано, чего же еще ожидать от его завистливых и тупоголовых вышестоящих коллег!
Итак, ничто не мешает ему уйти домой.
Но он не может уйти, он места себе не находит от беспокойства. Он слоняется взад и вперед по огромному зданию, блуждает по темным покинутым кабинетам, мешает работать ночным редакторам, и они, озлясь, швыряют в него свои пресс-папье. Он подолгу простаивает в наборной, и уже всем там надоел, и путается под ногами у мастера, перед большой ротационной машиной, — она пущена в ход и жужжит и гремит, оттискивая утренние газеты, те самые утренние газеты, которые подадут берлинцам к кофе его первую большую статью. Первую статью, подписанную его именем, ибо черным по белому под ней значится — «Грундайс».
Да, на это стоит посмотреть: черным по белому — «Грундайс».
— Ну как, прочитали фельетончик? — небрежно спрашивает он мастера.
— Довольно вам тут околачиваться! — огрызается старик. — Чтобы я стал читать этот навоз за гроши, что мне платят? Нет, не рассчитывайте! Хватит того, что мы печатаем для вас эту буржуазную трепотню!
Мастер, к сожалению, принадлежит к враждебной партии, и стряпня политических противников вызывает у него разлитие желчи.
И Грундайс продолжает метаться по огромному зданию, с тревогой думая о человеке, который едет и едет по большой дороге, потому что поставил себе целью еще сегодня добраться до Бранденбурга, хотя для первого дня было бы довольно и Потсдама. С тоской думает он о том, что все его надежды и виды на успех катят вместе с дремучим стариком по темным дорогам и что, если со старым извозчиком что-нибудь стрясется, заслуженно или нет — не важно, у него, его молодого сподвижника, не останется ни малейших шансов в этом огромном здании.
И что только не приходит ему в голову! И что старик занемог (ведь он только что болел); и что на пролетку налетела машина (это случается ежечасно); и что старик заложил (нос его внушает подозрение); и что у пролетки слетело колесо (а это могло бы привести к самым непредвиденным последствиям); и что извозчик нарушил какое-нибудь дорожное предписание (и вместо Парижа угодил в тюрьму); и что лошадь его схватили колики…
Но чем больше он клянет собственную глупость — глупо мучиться всякими предположениями, вместо того чтобы уютно сидеть вечерком за чарочкой в компании коллег; глупо сокрушаться о коварстве судьбы, вместо того чтобы положиться на ее волю; глупо, избрав окаянное ремесло газетчика, еще связаться с этой поездкой в Париж, — тем более он тревожится и бесится. «А ведь это еще только начало, — думает он. — Что же будет дальше?»
Он ерошит рыжую шевелюру, позвякивает мелочью в кармане. Словно преследуемый эриниями, слоняется он по коридорам и комнатам, а стоит ему подумать, сколько времени пройдет, пока Хакендаль соизволит прибыть в Париж, и что все эти дни и ночи его будет мучить неизвестность, — как он окончательно теряет рассудок.
«Спокойствие! — говорит он себе. — Полегче, старина! У репортера должны быть железные нервы. Газетчик, прибыв на место преступления, хладнокровно заносит свои наблюдения в записную книжку. Ты слишком взволнован, Грундайс, надо спустить пары».
И он направляется в читалку и, порывшись (то-то архивариус завтра обрадуется!) в стопке рукописных романов, берет один из них, пробегает полстранички и говорит: «Дрянь!» Берет другой, пробегает десять строк и говорит: «Архидрянь!» Третью рукопись он даже не раскрывает, а, поглядев на заглавие, восклицает со вздохом: «Да будь оно трижды проклято, это собачье дерьмо! Кто это в силах вынести?!» — имея в виду уже совсем не роман.
Он попросту выпускает рукопись из рук, и она падает в корзинку для мусора, куда, как известно, ни в одной порядочной редакции не попадают доверенные ей рукописи. Молодой Грундайс выскакивает как ошпаренный — свет он, разумеется, забыл погасить — и опять начинает слоняться по коридорам.
За десять комнат от читалки он находит расписание поездов. Только что прочитанное восклицание: «Кто это в силах вынести?» — наводит его на мысль, что нет никакой необходимости это выносить. В такую-то рань должен еще быть поезд на Бранденбург!
И в самом деле, такой поезд есть, и хоть времени более чем достаточно, Грундайс как безумный выбегает на улицу, бросается, запыхавшись, во встречное такси и со стоном выдыхает: «На Потсдамский!»
На шофера такая спешка производит впечатление, ровно за четыре минуты доставляет он Грундайса на вокзал и думает, участливо глядя ему в спину: бедняга спешит к постели умирающего!
Грундайс бросается к окошку кассы и, купив билет, бежит сломя голову вверх по лестнице, занимает купе, выбегает на перрон, просит налить ему что-то в буфете, покупает газету, бежит обратно и опять на перрон, покупает фрукты и опять на перрон — то туда, то обратно!
Наконец поезд трогается!
На целый час, на добрый час с четвертью, заперт он в этом распроклятом почтовом, который останавливается в каждой дыре, в том числе и в Потсдаме! Он предлагал Хакендалю ограничиться Потсдамом, но разве старость послушается разумных советов молодости? Чудак забрал себе в голову доехать до Бранденбурга — уже в первый день перегибает палку!
Мрачно смотрит Грундайс на свой билет. На билете значится, что перегон Берлин — Бранденбург насчитывает шестьдесят два километра, а он-то убеждал этого упрямого осла, что ему надо проезжать в среднем тридцать пять километров в день, — и такому-то идиоту доверил он свою судьбу!
Глубокое отчаяние охватывает Грундайса: все это, разумеется, кончится крахом. Все, за что бы он ни взялся, неминуемо кончается крахом. Толстяк Блай, их старший учитель, говорил ему в богадельне: «Уж если ты что знаешь, Грундайс, то разве только заведомую ерунду!» А когда мать, готовясь к празднику, нарядила его однажды летом в белый костюмчик с синим матросским воротником и поставила на вертящийся табурет перед роялем, чтобы мальчик не испачкался прежде времени, кто постарался, стоя на табурете, крутить сиденье до тех пор, пока деревянный винт не раскрутился, и он вместе с винтом и белым костюмчиком не хлопнулся на пол?..
Он! Всегда он! На него все шишки валятся, он законченный неудачник. Да и на что может надеяться человек с такой фамилией?
Уныло плетется он по темным и от того не менее ухабистым улицам города Бранденбурга. Нерешительно звонит у дверей местных гостиниц, покорно и терпеливо ждет, пока какая-то заспанная личность швырнет ему свое неласковое: «Нет, не приезжал!» — и тихонько плетется дальше, к следующей гостинице.
Увы, безнадежно! Была бы здесь скамья, с каким бы облегчением он на нее опустился и стал бы, оплакивая свою горькую участь, покорно ждать того, на что ему только и осталось надеяться, — ждать избавления от всех невзгод.
Но здесь нет такой скамьи. Вместо нее ему попадается нечто вроде ночного сторожа, и этот человек сообщает ему, что берлинский извозчик прибыл и что лично он, как опытный лоцман, препроводил его к «Черному коню»…
— Бодрый такой старичок, только закоченел малость. Это здесь, за углом. Извольте, провожу вас…
Уныло плетется Грундайс рядом со своим проводником. Все это, конечно, чистейшее недоразумение, возможно, конкуренты отрядили в пробег своего кандидата. Его же, Грундайса, извозчик в лучшем случае сидит в Потсдаме, если не свалился где-то по дороге в канаву…