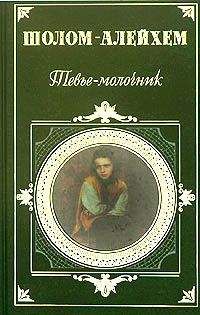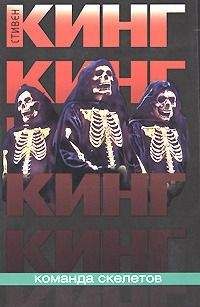И буря разрастается у меня в груди, и огонь пылает в моем сердце, гнев — не против других, а против самого себя. На себя негодую и на те мечты, глупые, детские, золотые мечты, ради которых я покинул отцовский дом. Ради них я забыл о Бузе. Ради них я пожертвовал частью своей жизни, проиграл свое счастье, проиграл, проиграл навеки!
Проиграл? Нет. Не может быть! Не может быть! Ведь вот я приехал. Приехал вовремя… Только бы мне остаться с Бузей наедине. Только бы сказать ей два-три слова. Но где мне сказать Бузе эти два-три слова, когда кругом столько людей? И они окружают меня со всех сторон. Все оглядывают меня, как медведя, как пришельца из другого мира. Все хотят меня видеть и слышать, — как я поживаю и что поделываю, — столько лет не видались!
Внимательнее всех слушает меня отец. Он сидит над старым фолиантом, как всегда, морщит свой широкий лоб, как всегда, и смотрит на меня поверх своих серебряных очков, гладит серебряные волосы своей серебряной бороды. Но мне кажется, что он смотрит на меня не так, как всегда. Нет, это не тот взгляд, не тот. Я чувствую это. Он оскорблен. Я восстал против его заветов, не захотел идти по его стопам, пошел своей дорогой.
Мать также стоит возле меня, бросила кухню, предпраздничные хлопоты и слушает меня со слезами на глазах. Кончиком передника она украдкой вытирает слезы, хотя лицо ее улыбается; и она слушает, как я рассказываю, и она смотрит на меня и глотает, глотает каждое мое слово.
Бузя также сидит против меня, сложив руки на груди, и слушает меня, как и все. Как и все, она смотрит на меня. Как и все, она глотает каждое мое слово. Я смотрю на Бузю. Я читаю в ее глазах и ничего не могу прочитать. Ничего.
Да рассказывай же, чего ты замолчал? — говорит мне отец.
Оставь ты его в покое! — спохватывается мать. — Мальчик устал, мальчик голоден. А он: рассказывай да рассказывай! Рассказывай да рассказывай!
7
Понемногу народ начинает расходиться, и мы остаемся одни: отец, мать, я и Бузя. Мать уходит в кухню и скоро возвращается с красивой пасхальной тарелкой, знакомой тарелкой, расписанной большими зелеными листьями.
— Ты закусил бы, Шимек! До трапезы еще далеко, — говорит мне мать с любовью и душевной теплотой.
Бузя подымается, идет своим тихим, спокойным шагом и приносит мой прибор — знакомый пасхальный прибор. Все это мне знакомо. Все здесь осталось по-старому, не изменилось нисколько. Та же тарелка с большими зелеными листьями, та же вилка и нож с белой костяной ручкой. Тот же чудесный запах пасхального гусиного жира. Тот же сладостный вкус пасхальной поджаренной мацы.
Все здесь по-старому. Не изменилось нисколько…
Но тогда, в канун пасхи, мы оба ели, я и Бузя… Из одной тарелки, помнится мне, мы ели. Вот и в этой самой пасхальной, красиво разрисованной тарелки, расписанной зелеными листьями. И орехов дала нам мать тогда, помнится мне. Полные карманы орехов. И мы взялись тогда за руки, помнится мне, я и Бузя, и мы полетели, помнится мне, как орлы. Я мчусь — она за мной. Я через колоду — она за мной. Я вверх — она вверх; я вниз — ома вниз.
«Шимек! До каких же пор бежать, Шимек?» — говорит мне Бузя. А я отвечаю ей словами «Песни Песней»: «Пока день дышит прохладою и не исчезнут тени с земли…»
8
Это было когда-то, много лет тому назад. Теперь Бузя выросла, стала большая. И я вырос, стал большой. И невестой она стала, Бузя, чьей-то невестой, не моей… Я хочу остаться с Бузей наедине. Только бы сказать ей несколько слов. Хочу услышать ее голос. Словами «Песни Песней» я хочу сказать ей: «Покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой…» И мне кажется, ее глаза ответят мне словами «Песни Песней»: «Пойдем, дорогой мой, выйдем в поле, не здесь, в поле… в поле… Там я тебе скажу. Там я тебе расскажу. Там мы будем говорить. Там…» Я выглядываю в окно на улицу. Ах, как хорошо, как чудесно там! Совсем как в «Песни Песней»! Жаль только, день уже на исходе. Низко-низко опускается солнце и окрашивает небо в багрянец и золото. Золото отсвечивает в глазах Бузи. Глаза ее купаются в золоте. Скоро и дню конец. Не успею даже словечком перемолвиться с Бузей. Весь день ушел на пустую болтовню с отцом, с матерью, с родней — о том, что я слышал, о том, что я видел… Я встаю, поглядываю в окно на улицу и мимоходом говорю Бузе:
— Не пойти ли нам погулять? Так долго дома не был. Хотелось бы поглядеть на наш двор, посмотреть город…
9
Но что это с Бузей? Лицо ее вспыхнуло, оно горит огнем. Как солнечный шар перед самым закатом, так покраснела она. Она кидает взгляд на отца. Видимо, она хочет знать, что скажет отец? А отец смотрит на мать поверх своих серебряных очков. Он поглаживает серебряные нити своей серебряной бороды и говорит просто так, не обращаясь ни к кому:
— Солнце садится. Пора уже одеваться, скоро и в синагогу идти. Свечи пора зажигать. Как ты полагаешь?
Нет, сегодня мне, видно, не обменяться с Бузей ни словом.
Мы идем одеваться. От матери уже пахнет праздником. Она надела свое праздничное шелковое платье. Ее белые руки блестят: ни у кого нет таких белых красивых рук, как у моей матери. Вот скоро она будет зажигать свечи. Своими белыми руками она закроет глаза и будет тихо-тихо плакать, как когда-то. Последний луч заходящего солнца будет играть на ее красивых, благородных белых руках. Ни у кого нет таких красивых, благородных белых рук, как у моей матери.
Но что с Бузей? Лицо ее погасло, как солнце перед закатом, как уходящий день. Красива она, однако, и прелестна, как никогда. И глубоко печальны ее прекрасные голубые глаза из «Песни Песней». И задумчивы ее глаза.
О чем думает теперь Бузя? О милом госте, которого она так долго ждала и который примчался так неожиданно после долгой отлучки в родной дом? Или о своей матери, которая вторично вышла замуж и уехала куда-то далеко и забыла, что у нее есть дочь, которую зовут Бузей? Или о своем женихе думает Бузя, которого отец и мать, конечно, навязали ей против ее воли? Или о свадьбе, которая должна состояться через неделю после швуэс, с человеком, которого она не знает и не ведает, кто он и что он… А может быть, наоборот, может быть, я ошибаюсь? Может, она ведет счет дням — от пасхи до швуэс, потому что это ее избранник, потому что он ей мил, он ей дорог? Он поведет ее под венец, и ему подарит она свое сердце и любовь. А мне? Мне она, увы, всего только сестра. Была сестра и осталась сестрой… И мне кажется, она смотрит на меня с состраданием и с досадой и говорит мне, как говорила когда-то, словами «Песни Песней»: «О, если бы ты был брат мой! Ах, почему ты не брат мне?!» Что мне ей ответить на это? Я уж знаю, что я ей отвечу. Только бы удалось сказать ей несколько слов. Несколько, слов.
Нет. Сегодня мне с Бузей не обменяться ни единым словечком, ни полсловом. Вот она встает, идет тихими, легкими шагами к шкафу, приносит матери свечи в серебряных подсвечниках. Старые, знакомые высокие серебряные подсвечники. Эти серебряные подсвечники занимали когда-то почетное место в моих золотых мечтаниях о заколдованной царевне в хрустальном дворце. Эти золотые мечты, и эти серебряные подсвечники со свечами, и красивые, белые благородные руки матери, и прекрасные голубые глаза Бузи из «Песни Песней», и последние золотые лучи заходящего солнца — разве все это не переплелось крепко-накрепко, не связалось в нечто единое?..
— Ну, — говорит мне отец, глядя в окно и намекая на то, что нам пора одеваться и идти в синагогу.
Мы одеваемся, я и отец, и уходим в синагогу.
10
Наша синагога, наша старая-престарая синагога тоже не изменилась, не изменилась нисколько. Только стены чуть почернели. Чуть сгорбился аналой, несколько постарела трибуна для чтения Торы, да и притвор со святынями потерял свой былой блеск.
Как маленькое святилище выглядела когда-то в моих глазах наша синагога. Ах! Куда девались былая краса и блеск нашей старой синагоги? Где те ангелы, которые витали здесь под разрисованным потолком в канун субботы и во все праздники, когда я бывал здесь?
И прихожане тоже мало изменились. Только чуть постарели. Черные бороды поседели. Плечи согнулись. Атласные праздничные кафтаны посеклись. Виднеются белые нитки, желтые полосы. Кантор Мейлах и теперь поет так же красиво, как когда-то, много лет тому назад. Только голос у него чуть приглушен, А в молитве у него слышится новый тон: в ней больше плача, чем пения, больше жалобы, чем мольбы. А наш раввин? Старый раввин? Тот вовсе не изменился. Был бел как снег и остался таким же белым. Одна только мелочь: руки у него теперь трясутся, да и весь он трясется. Должно быть, от старости. Служка Азриел, мужчина без признака бороды, был бы тем же, что и когда-то, если бы не зубы. Он потерял все зубы, и со своими впалыми щеками он скорее похож теперь на женщину, чем на мужчину. Однако он и теперь еще может стукнуть рукой по столу, когда дело дойдет до молитвы «Восемнадцать благословений»!.. Правда, удар уже не тот, что когда-то. Когда-то, много лет тому назад, можно было оглохнуть от его удара; теперь уже не то. Видно, не стало былой силы. А был когда-то богатырской силы-человек.