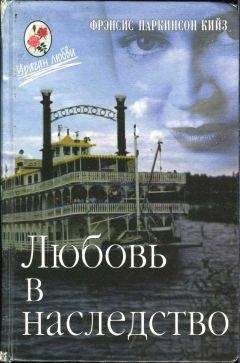— Милая моя, это как сложение в математике. С одной стороны, они могут навлечь на себя дипломатические неприятности, но, с другой стороны, это для них все же выгоднее, чем позволить нам раздобыть уголь. Важны не отдельные слагаемые, а общая сумма.
— Вы боитесь?
— Честно говоря, да.
— А почему бы вам не остановиться где-нибудь еще? Скажем, у меня. Место всегда найдется.
— Не могу. Я оставил кое-что там, в номере.
Такси остановилось. Он вышел из машины, она — за ним. Они стояли на тротуаре у дверей отеля. Она сказала:
— Я могу подняться с вами... на тот случай, если...
— Лучше не надо.
Держа ее за руку, он огляделся и убедился, что вокруг никого нет. Интересно все-таки, управляющая с ним или против него. А мистер К.? Он сказал:
— Перед тем как вы уйдете, мне хотелось бы еще раз напомнить вам... Насчет места для девочки, о которой я говорил. Я ручаюсь за нее. Ей можно доверять.
Она сказала резко:
— Не порите чепухи. Я пальцем не пошевелю, даже если она подыхать будет!
Таким же тоном она требовала еще виски у бармена на пароходе, пересекавшем Ла-Манш. Капризное, избалованное дитя, не терпящее, когда ему перечат. Кажется, с тех пор прошла вечность.
— Отпустите мою руку!
Его пальцы разжались.
— Идиотское донкихотство. Думайте, думайте о какой-то сиротке, а пока пусть в вас стреляют и убивают! Вы не от мира сего.
Он сказал:
— Вы не хотите понять меня. Эта девочка так молода, что годится мне в...
— Дочери, — подхватила она. — Продолжайте в том же духе. Только учтите — я тоже гожусь вам в дочки. Смешное совпадение, не правда ли? Но у меня всегда так. Я знаю. Я вам не врала, когда говорила, что не люблю романтики. Просто у меня, наверно, «комплекс отца». По тысячам различных причин ненавидишь собственного папашу и вот влюбляешься в мужчину того же возраста, что и отец. Знаю, это ненормально. Уж романтикой, во всяком случае, и не пахнет — звоню вам по телефону, назначаю свидание...
Он смотрел на нее, со смущением осознавая свою полную неспособность чувствовать что-либо, кроме страха и разве что жалости. Поэты семнадцатого столетия утверждали, что можно навеки потерять сердце. Современная психология говорит иначе: можно чувствовать такую тоску и отчаяние, что атрофируются все иные эмоции. Он стоял перед открытой дверью этой гостиницы, куда забегали «на часок», чувствуя свою безнадежную непригодность для нормальной человеческой жизни.
— Если бы только не война...
— Для вас она никогда не кончится, вы сами говорили.
Она была красива. Никогда, даже в дни молодости, не встречал он такой красивой девушки. И уж конечно, его жена на нее не походила: она была обычная, незаметная. Но это не имело значения. Чтобы вспыхнуло желание любить, видимо, особой красоты и не требуется.
Он обнял ее, так, для эксперимента: решил попробовать.
Она спросила:
— Можно, я поднимусь с вами?
— Неподходящее место для вас.
Он опустил руки — чуда не произошло.
— Я поняла, что со мной что-то не то творится, когда вы подошли вчера вечером к машине. Мне стало плохо, когда я услышала, что они вас бьют. Я думала, это от того, что я перепила. А сегодня утром проснулась, а на душе все так же. Ведь я раньше никогда не влюблялась. Как называется детская влюбленность — телячьи нежности?
От нее исходил запах дорогих духов. Д. хотел бы чувствовать к ней нечто большее, чем жалость. В конце концов, судьба дарила шанс немолодому человеку, бывшему преподавателю романских языков.
— Милая, — сказал он.
— Такая любовь долго не продолжается, я знаю. Да она и не может быть долгой. Вас ведь убьют, это ясно как дважды два.
Он неуверенно поцеловал ее и сказал:
— Роз, милая, мы увидимся... завтра. К тому времени все мои дела закончатся. Мы встретимся и отпразднуем...
Он понимал, что слова его звучат не очень убедительно, но это был не тот случай, когда следует раскрывать душу. Она слишком молода, чтобы выдержать правду.
Она сказала:
— Даже у Роланда, я думаю, была женщина...
И он вспомнил: эта женщина — ее звали Альда — упала замертво, когда ей принесли весть о гибели Роланда. В легендах всегда так — когда обрывается жизнь одного из влюбленных, умирает и другой. Считалось, что это само собой разумеется. Недаром менестрель посвятил Альде лишь несколько отписочных строчек. Вот и его жизнь кончилась после расстрела жены.
Он сказал:
— Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Она ушла по улице туда, где чернели деревья. Нет, она слишком хороший человек, чтобы работать на Л., — подумал он. Он открыл в себе желание любить. Это было равносильно предательству, но стоило ли терзаться — завтра все будет улажено, и он вернется на родину... Интересно, выйдет ли она все-таки замуж за Фурстейна?
Он толкнул внутреннюю, стеклянную дверь, та легко поддалась, не заперто. Он автоматически сунул руку в карман, но вспомнил, что безоружен. Свет не горел, хотя кто-то был в холле — он слышал дыхание у той стены, где стояла высокая ваза с цветами. Сам он еще торчал перед дверью, освещенный уличными фонарями. Продвигаться дальше нет смысла — стрелять будут они, а не он. Он вынул из кармана пачку сигарет, попытался совладать с дрожью в пальцах, но страх перед болью не отпускал. Он сунул сигарету в рот и полез за спичкой — вспышка тут, прямо у стены, будет для них неожиданностью. Он сделал шаг и внезапно чиркнул спичкой о стену. Спичка царапнула по раме картины и вспыхнула. Бледное детское лицо выплыло из темноты, как воздушный шар. Он сказал:
— О господи, Эльза, ты меня напугала. Что ты здесь делаешь?
— Жду вас, — прошептал тонкий дрожащий голос. Спичка погасла.
— Зачем?
— Я думала, вы ее приведете сюда. Моя обязанность — провожать гостей в номера.
— Какая чепуха!
— Но ведь вы поцеловали ее?
— Это был ненастоящий поцелуй.
— Почему ненастоящий? Вы могли поцеловать и по-настоящему — за то, что она сказала.
Уж не совершил ли он ошибку, оставив ей документы, — девчонка могла уничтожить их из ревности. Он переспросил:
— Что она сказала?
— Она сказала, что вас все равно убьют, ясно как дважды два.
Он с облегчением рассмеялся.
— Мы говорили о войне у меня на родине. Там, верно, людей убивают. Но она никогда не видела, как это происходит.
— Здесь за вами тоже охотятся, — сказала девочка.
— Ничего серьезного они мне сделать не могут.
— Что вы! У нас тут такой ужас был, — сказала она. — Они там сейчас наверху разговаривают.
— Кто? — спросил он резко.
— Хозяйка и один человек.
— Что за человек?
— Маленький, седой, очки в стальной оправе.
Так. Значит, он выскочил из кино перед ними. Девочка шептала дальше:
— Они задавали мне всякие вопросы.
— Какие вопросы?
— Не говорили ли вы мне чего-нибудь, не видела ли я каких-нибудь бумаг. Ну, конечно, я говорила только нет и нет. Я б им все равно ничего не сказала, что бы они со мной ни делали.
Он был тронут ее преданностью. Почему же мир так устроен, что душевные сокровища растрачиваются понапрасну. Она сказала горячо:
— Пусть хоть убьют.
— Тебе это не грозит.
Ее голосок задрожал:
— Она на все способна. Она иногда как сумасшедшая, если ей перечат. Ну и пусть. Я вас не подведу. Вы джентльмен.
Аргумент был абсолютно несостоятельный. Она печально продолжала:
— Я для вас все сделаю, как та ваша девушка.
— Ты уже сделала значительно больше.
— Она уедет с вами вместе в вашу страну?
— Что ты, конечно нет.
— А мне можно?
— Маленькая, — сказал он, — ты не знаешь, что там у нас делается.
Он услышал долгий, разочарованный вздох.
— А вы не знаете, что тут у нас делается!
— Где они сейчас? Управляющая и этот ее знакомый?
— На первом этаже, — сказала девочка. — Они ваши заклятые враги, да?
Бог знает, из каких грошовых книжонок вычитала она это выражение.
— Я думаю, скорей наоборот — они мои друзья. Но точно не знаю. Хорошо бы мне это узнать до того, как они обнаружат, что я пришел.
— О, они уже знают. Она все слышит. Слышит в кухне, что говорят на чердаке. Она приказала мне ничего вам не рассказывать.
Его пронзила мысль: неужели и этому ребенку тоже грозит опасность? Быть не может. Что они могут ей сделать? Он осторожно начал подниматься по неосвещенной лестнице. Одна ступенька скрипнула. Лестница сделала поворот, и он ступил на площадку. Дверь комнаты, выходившей на площадку, была распахнута. Электрическая лампочка под розовым шелковым в сборочку абажуром освещала фигуры двух людей, терпеливо дожидавшихся его.
Д. вежливо приветствовал:
— Бона матина. Вы не сказали мне, как будет ночь на энтернационо.
— Входите и закройте за собой дверь, — приказала управляющая.
Он повиновался — ничего другого не оставалось. Ему подумалось, что пока еще ни разу ему не разрешали взять на себя инициативу. Он был чем-то вроде кегли, которую все норовят сбить шаром.